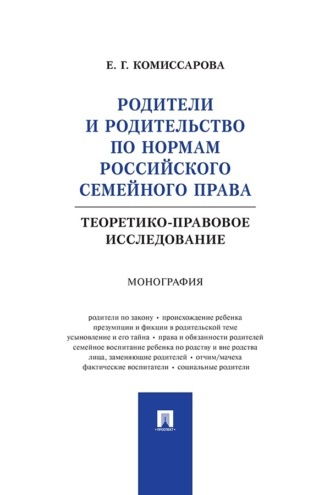
Полная версия
Родители и родительство по нормам российского семейного права (теоретико-правовое исследование). Монография
Как и в российском законодательстве, логика семейно-правового регулирования брачно-семейных отношений в Германии и Франции остается ориентированной на идею стабильности семьи и добросовестность родительского поведения. Это соответствует традиционному (консервативному) подходу в регулировании родительских отношений, основанному на паритете между догматической и политико-правовой парадигмами.
В США и Великобритании по отношению к семье и семейным отношениям действует подход, характерный для либеральных государств – свобода, индивидуализм, недискриминация[43]. Столкнувшись с плюрализмом родительских практик доктрина общего права встала в нейтральную позицию[44], ориентируясь на права и свободы, которые дают возможность лицам делать родительский выбор по намерению, мотивации и индивидуальной цели Легализация этого прагматического выбора с помощью судебных прецедентов, позволила считать нормальным то положение, при котором «государство не обладает неограниченной свободой усмотрения в том, чтобы проводить „юридические“ границы родительства по своему усмотрению»[45]. Отсюда берет начало гибкость и казуальность родительского языка доктрины общего права, который создан судебными юристами в целях поощрения стремления третьих лиц, продемонстрировавших навыки участия в воспитании ребенка «в родительской форме», получить родительскую ответственность по запросу.
Знание о либеральном устройстве права стран общего права, где индивидуальное и единоличное часто берет верх над позитивным, задавая тем самым правовым нормам качество вторичности, все же не отменяют ни возможности, ни необходимости по-научному взглянуть на его установления.
Великобритания считается страной, в которой раньше других зародилась проблема детских прав (1796 г.)[46], обусловившая их связь с юридическим правосознанием. В этой стране нет четкой семейной политики и семья не ассоциациируется с «ячейкой общества», «привилегированным союзом» или «маленькой республикой», как это принято в большинстве континентальных стран. В основе регулирования лежит представление о расширенной семье, которая включает в себя несколько поколений родственников разной степени близости, а также третьих лиц, которые по суду или соглашению с законным родителем получили право опеки над ребенком.
Семья считается частным делом, куда государство не вмешивается до тех пор, пока не возникают основания для передачи неблагополучного ребенка «под опеку суда». Внимание к семье исторически связано со снижением риска детской бедности. Столкнувшись с этим явлением, Великобритания сделала благополучие детей приоритетным направлением государственной политики, ориентирующей законодателя и суд на две максимы: время детства – это время воспитания (родительское время); дети не могут сами заботиться о себе, и государство лучше знает, что им полезно и важно[47].
До 1989 г. в наименовании родительских полномочий существовала разность терминов, – «родительские права и обязанности», «права и властные полномочия», «полномочия и обязанности». С принятием нового Закона о детях, законодатель однозначно указал, что вопрос о воспитании детей – это не вопрос родительских прав и обязанностей, а вопрос родительской ответственности[48]. В обновленном понятии оказались соотнесенными права, обязанности, полномочия, ответственность и авторитетность, которыми обладает законный родитель в отношении личности ребенка и его собственности. Так закон акцентировал максиму о том, что родители имеют не права на ребенка, а обязанности в отношениях с ребенком. Также была усилена идея о распределении ответственности за детей между государством и родителями – в первоочередном порядке ответственными за уход и воспитание детей являются их родители или те, кто назначен родителем[49].
Родитель «в статусе», он же родитель «по происхождению», и родитель функциональный «по назначению» в Законе о детях разделены. Приоритет первого является неоспоримым. Для того, чтобы это подчеркнуть, смысл понятия «родительская опека» был преобразован. По отношению к ключевому понятию «родительская ответственность» оно стало основным. Исходя из этого обладателем родительской опеки могут быть только статусные родители, которые по закону несут родительскую ответственность. В то время как остальные лица, именуемые обобщенным словом «родитель по воспитанию» или назначенный родитель – это те лица, которое лишь «находится на месте родителя и реализует его полномочия и обязанности»[50]. Такая идеология отвечает государственной тактике отношения к детям, признающей, что государству важно, что у ребенка есть кто-то, кто действует по отношению к нему как отец и мать, вне зависимости от того, биологически или социально заданы эти функции.
Концепция семейного права США воплощает в своем содержании библейский традиционализм, переживающий новый период известности и влияния в научном дискурсе, и либеральный индивидуализм, тесно связанный с социальной практикой[51]. Эта двойная основа отчетливо прослеживается во всех оглавлениях учебников по семейному праву США[52].
История детства, семьи и родительства в США считается богаче и сложнее истории других стран и отражает сильную традицию родительской заботы о воспитании детей, в том числе (как и в Великобритании) за счет деинституционализации правил о воспитании ребенка. Отсюда берет свое начало разветвленная родительская терминология. США стали первой страной, где в теоретический оборот было введено понятие «родительство» – сначала в его узком, а после в широком значении в параллели с уже существующим термином «воспитание детей». Ориентируясь на это деление и стремясь избежать «дефицита родителей», законы и судебные прецеденты США следуют идеологической установке о том, что родителем можно стать в любой момент жизни мужчины или женщины, чему способствует разделение таких понятий, как «союз родительский» и «союз воспитательный».
Наряду с «главным родителем», каким является государство, которому поручено защищать благополучие детей, в этой сфере есть множество частных и публичных терминов. Это не только затрудняет восприятие американского опыта при исследовании родительских прецедентов и институтов, но и существенно ограничивает пределы его копирования из-за множества контекстов, индивидуализирующих этот опыт. Кроме гибкости судебных прецедентов и легитимации идеи «брак для всех», это еще разнообразие семейно-правового регулирования от штату к штату, подписание, но не ратификация Конвенции ООН о правах ребенка, обусловленное разными ролями, отводимыми внутреннему и международному праву.
В той или иной мере американская правовая наука связана с европейским научно-правовым дискурсом. Но их разделяет та особенность, что начиная со второй половины XX в. американские юристы стали часто обращаться к методам и теориям других дисциплин – социологии, психологии, демографии, социальной географии, экономики, религиоведения. Движение зародилось для того, чтобы расширить сферу применения юридических исследований, усовершенствовать юридические формулировки и сделать более целостным и реалистичным понимание права в обществе[53]. Поэтому в сравнении с другими странами считается, что семейно-правовые исследования в США организованы лучше всего[54]. По числу профессиональных социологов и выпускаемой социологической литературы США остается лидером[55]. Итогом постоянного дисциплинарного сопересечения социологии и семейного права стали многочисленные юридические исследования родительства и даже выделены отдельные направления, которые должны познаваться с привлечением ресурса социологического знания в надежде на возможность ограничения судебного усмотрения по ним. Зримым эффектом таких совместных исследований стало «освещение семейных узоров такими, какие они есть, а не такими, какими они были несколько десятилетий назад»[56].
Тесная приверженность идее сохранения семьи определяет многие особенности американского законодательства. Если прежде в американской истории одной из основных функций семейного права было формулирование и укрепление определенных широко распространенных стандартов и норм о семье (предписывающий стиль закона), то в последние годы юристы отказались от использования закона и семейной политики, призванных закрепить семейные стандарты, ориентированные на супружеское единство и семейную солидарность. По итогам «обзоров» общества в виде опросов, аналитики деловой статистики, проводимых социологами, был сделан вывод о том, что закон имеет пробелы и противоречия[57]. На смену стандартам пришли личный выбор и ответственность за него. Фактическая ответственность за детей и приемные семьи «по намерению» – это тот «родительский ресурс», который, по смыслу доктрины общего права, неразумно игнорировать в условиях «индивидуализации стилей семейной жизни».
В отличие от Великобритании закон и судебная практика в США оперируют менее гибкой конструкцией «родительские права и обязанности». Но это не помешало внедрить в закон такие натуральные понятия, как «фактический родитель», «психологический (ассоциативный)», а так же «фактический», «вторичный» опекун и др. Такое разнообразие лиц, которые готовы встать на место родителя «по воспитанию», позволяет судам считать, что благополучие ребенка может обеспечиваться не только двумя лицами с родительскими правами и обязанностями. За счет легального переноса родительских прав и обязанностей через вмешательство суда это могут сделать и третьи лица.
Нидерланды, где семейное законодательство также носит либеральный характер, исторически считаются разделительной полосой между англо-американским законодательством о семье и законодательством европейским[58]. В нем в равной мере присутствуют как признаки континентального регулирования (малая этническая семья нуклеарного типа) и англосаксонского либерализма (недискриминация и свобода личного выбора), так и индивидуальные особенности правовой системы этой страны, происходящие из Конституции Нидерландов, которая запрещает любую дискриминацию по признаку пола, семейного положения и по любому другому признаку[59].
Эта страна (как и Швейцария, Норвегия, Швеция, Дания) причислена к тем странам, которые характеризуются родительским подходом в семейной политике[60]. Раздел 14 Гражданского кодекса Нидерландов (далее по тексту – DCC)[61], касающийся отношений родителей и детей, считается «одним из самых сложных»[62]. Слово «родитель» в DCC употребляется только для указания на законного родителя ребенка. Родительство по закону, «основанное на правиле двух», считается «сердцем» нидерландского семейного законодательства[63].
Необходимость остановки на порядке регулирования и доктринального опыта названных стран крайне важна. Слишком многое уже «выдернуто» из него и провозглашено в российских семейно-правовых исследованиях о родителях без учета национальных и политических контекстов. В связи с тем, что обращений к опыту этих пяти стран по тексту немало, автор меньше всего желает быть замеченным в механическом употреблении зарубежных научных взглядов и иллюстративных отсылках к зарубежному законодательству. Поэтому на уровне предварительных суждений ключевые особенности родительского контента каждой страны приведены в этой части книги.
Глава 1
Родительство в междисциплинарном дискурсе
1.1. Концепт родительства в социологии и психологии, педагогике, антропологии. Этиология понятия «родительство»
Понятие «родительство» существовало не всегда. Это новый концепт, созданный в гуманитарных науках за счет извлечения из классической антропологии таких известных понятий, как «родство» и «родители». Первые приметы языкового обновления в этой области научного знания появились в начале XX в. за счет включения в этот терминологический ряд нового термина «родительство». Как указал в 1913 г. английский этнограф и культурный антрополог Б. Малиновский, «ни в одной культуре нельзя выжить, если рождение детей не будет связано как с матерью, так и с отцом в законном родительстве»[64]. В содержательном смысле за новым термином не стояло какой-либо новизны – антропологию всегда интересовало кровное родство, и новый термин его отражал. Но по следам более поздних исследовании автор посвятил отдельный труд месту и роли родительства в социальной структуре общества как одному из его культурных институтов[65].
После антропологии научную силу термина «родительство» обнаружили психологи[66]. Изначально в этой области знаний термин получил негативный оттенок из-за его употребления для целей описания патологий в стилях родительского поведения на стадии ожидания ребенка[67]. Но итог такого подхода оказался судьбоносным – он принес науке два самостоятельных термина как «материнство» и «отцовство»[68].
Во второй половине XX в. на термин «родительство» обратили внимание социологи. Родиной этой науки была философия, и социологи вполне естественно принимали природную заданность родительского положения, где правили установки естественного права, или связи «по природе». Появление термина «родительство» в антропологии и психологии заставило социологов озаботиться проблемой самодостаточности исходного термина «родитель». В своем традиционном узком смысле он был значим только в семье и для семьи и предметно указывал лишь на тех лиц, от которых произошел ребенок[69], отражая тем самым классические взгляды на родство.
К концу XX в. понятие, стоящее за термином «родительство», было исследовано в разных науках, использовавших его для описания социального статуса (роли, кода) или общественного запроса. К этому времени на русский язык были переведены зарубежные труды по проблемам родительства[70], и термин постепенно утвердился как многопредметный, став общепризнанной частью гуманитарной терминологии. Его последующая востребованность стала связываться не только для обозначения связи родившегося и рожденного. Термин стал использоваться так же в качестве адекватного носителя информации «о симптомах и результатах продолжающихся преобразований современной семьи и возрастающей сложности семейных траекторий»[71].
В современном лингвистическом обороте термин «родительство» имеет статус термина двойной системности: как единица повседневного языка и как отображение понятия предметной сферы конкретного вида гуманитарного знания, где он описывается на уровне самостоятельных теорий[72]. Наиболее развернутый характер такие теории получили в социологии родительства[73], психологии[74] и педагогике[75].
Терминосистема этих теорий просторна и многообразна. В ней много неологизмов («родительская сфера», «социальная роль родителя», «родительская индивидуальность» и др.) и вариативности при указании на те элементы, которые задают термину «родительство» желаемый смысл (стиль, практика, позиция, состояние и т. д.). Отсюда берут начало вариативность параметров для определения тех лиц, которые могут достигать родительского положения, и сдвиги в родительской терминологии, указывающей на третьих лиц, которые могут быть причислены к родителям.
Всю эту разность объединяет открытость понятия «родитель». За прелами права оно именует не только лиц, от которых произошел ребенок «по рождению», но и отношения, которые по поведенческим параметрам складываются «как родительские». Признание качества открытости родительской терминологии служит той точкой отсчета, от которой берет свое начало легальность классификации родительских состояний – они могут быть прирожденными (аналог законного родительства) и социально достигаемыми (родительство социальное, как бы родительство, псевдородительство). Научное внимание к последним в социальных науках более тщательное – так называемое приписываемое родительство в большей степени соответствует их предметным запросам.
Так, в социологическом знании понятие «родительство» именуется несколько явлений: социальный институт, категория лиц, набор практик родительской заботы[76], «социальная система и технологии сопровождения детей»[77], социальная роль, указывающая на то, «какое поведение ожидается от людей, занимающих конкретные социальные позиции, на основе чего они вырабатывают конкретные модели поведения, занимая эти позиции»[78]. Эта разность открывает большой простор для указания на третьих взрослых, которые не связаны с ребенком отношениями «по происхождению», но выполняют значимую социальную роль, которая в обществе приписана родителю. Последствия неограниченных социологических возможностей по конструированию родительских состояний легально продекларированы в доктрине в виде указания на то, что «быть родителем – значит учитывать интересы „других“ родителей»[79]. Так легализованы настоящие и потенциальные родительские классификации, которые могут указывать на родителей «настоящих», «других», «разных».
Научное описание родительства в психологии имеет тесную связь с ролевыми теориями. Как утверждают ее представители, «принятие лицом родительской роли», сочетает в себе эмоциональные, функциональные, дистантные характеристики родителя[80]. Обычно такая роль приписывается взаимосвязанным с ребенком лицам, которые «на уровне эмоциональных связей поддерживают отношения, подобные родительским, то есть основанные на чувствах, любви и привязанности к детям»[81]. В зарубежной доктрине такие «родители», представленные в качестве первозначимой фигуры в организации зависимости, проходящей через сознание ребенка и взрослого, часто ставятся на первое место «перед лицом биологических и фиксирующих их юридических связей»[82].
Педагогическая наука исследует феномен родительства в основном с позиций стиля родительского поведения. Проблематика основана на классификационных родительских понятиях: «интенсивные родители», «авторитарные родители», «ответственные родители», «осознанное родительство» и др.
Общим местом внеправовых взглядов на родителей и родительство является свободный отход от кровнобиологического происхождения с принятием за основу рассуждений «схем повседневного общения ребенка и значимого взрослого, который заботится о нем и благодаря таким взаимодействиям становится для ребенка родительской фигурой»[83]. Это предрешило тот факт, что во всех гуманитарных науках, вне зависимости от того, какие критерии положены в основу родительских определений (цель, роли, стили, фигуры, установки, позиции, опыт, практики, функционал)[84], родительская идентификация представлена как пластичная. В ней также много лингвистических дополнений: «быть родителем», «как родитель», «подобно родителю», «на месте родителя», в «роли родителя». Хранителем этого разнообразия служит аргумент о том, что родительство может иметь не только биологические, но и социальные основания[85], которые государством не санкционированы.
Совокупность разнопредметных гуманитарных усилий по описанию текущих родительских практик и их конфигураций в начале XXI в. получила обозначение с помощью звучной метафоры «фабрика социального родительства»[86]. Это сборное словосочетание вполне определенно передает итоговое фактическое многообразие параллельно существующих систем связанности ребенка и взрослого, в которых взрослый участник не идентифицирован правом, а всего лишь фактически находится в «позиции воспитывающего родителя».
Понятные и гуманные социальные сценарии родительства, движимые в основном эмпирическими стратегиями и предметным считыванием текущей родительской реальности, не являются универсально значимыми для науки семейного права. Кардинальное расхождение между целями и способами социологического и семейно-правового описания того, что стоит за интуитивно понятным в общепринятом смысле определением родительства, создает вполне объяснимую разность внутридисциплинарных описаний, когда каждое опирается на свою историю, терминологию и методологию. Поэтому задача правоведов, связанных абстрактным мышлением и формальной логикой, не раствориться в текущих социальных представлениях о родителях и тем самым избежать их простого трансфера. Ценность этих взглядов для юриспруденции ограничена фактом их узнавания в целях отыскания возможных юридических референтов в пространстве семейного права или иного их приспособления к абстрактному юридическому языку.
Данное авторское суждение является посылочным для целей последующего теоретико-правового объяснения того, почему большинству научных взглядов и родительских теорий, вычлененных за пределами права, не дано прижиться в юридическом дискурсе с приданием того же значения, которое им уже присвоено в других гуманитарных науках.
Более глубокие суждения о невозможности простого переноса дисциплинарных теорий и их терминологии в область семейно-правового знания связаны с методологическими соображениями. Они следующие.
Во-первых, для целей научного описания феномена родительства в разнодисциплинарных теориях оно представлено не как элемент семьи, существующий внутри ее, а в качестве одной из подсистем семьи, то есть «не как явление, поглощенное семьей, а как самозначимый для развития общества феномен»[87]. Как отметил советский и российский социолог С. И. Голод, «брачность, сексуальность и прокреация в их тесной взаимосвязи уже не служат для целей научного описания каждого»[88]. Этот тезис раскрывает особенности методологии исследования родительства за пределами права. Следуя своим предметным задачам и не имея обязанности оглядываться на действующее право, воззрения представителей этих наук на родителей и родительство свободны от той догматической схемы, в которую на уровне единства встроены брак, родительские статусы, происхождение ребенка, идентификация лиц, ставших родителями, родительские права и обязанности.
Во-вторых, особенность неюридических взглядов на родительство, во многом отражающих сферу реального родительского бытия, состоит в том, что они развертываются и существуют в пространстве атрибутов, где, как было показано, есть роли, позиции, состояния, стили, установки, намерения, привязанности, взаимозависимость[89]. Все эти атрибуты сфокусированы не на родителях, от которых ребенок произошел, а на эквивалентах родительской функции в воспитательном процессе. Такой контекст суждений о родителях согласован с конкретными задачами проводимых исследований, когда важно открыть и описать «различные среды с участием разных индивидов, на месте которых рядом с ребенком могут быть разные взрослые»[90]. Очевидность того, что атрибутивная линия проходит мимо юридической линии родительских статусов, присваемых на основе происхождения, не требует специальных доказательств.
В-третьих, к числу других отличительных признаков родительских теорий «вне права» следует причислить тот факт, что все они в своей эмпирической заданности ориентированы не на отношения с ребенком, а на отношение к ребенку («родители субъекты влияния, дети – объекты»). В таких отношениях институциональный компонент отсутствует, в то время как субъективно-личностный, от которого берут свое начало функциональный и эмоциональный анализы родительства, преобладают.
В-четвертых. Очевиден тот факт, что точкой отсчета в рассуждениях о родителях в социогуманитарных областях знания является не происхождение ребенка как первозначимое и всенаправляющее для права, а воспитательное отношение к ребенку после его рождения, раскрываемое на языке социологов через «разные конфигурациии распределения заботы о детях»[91]. Несвязанность концепцией происхождения, от которой берет свое начало родительская идентификация в праве, – это тот самый пункт, который обеспечивает культурным антропологам, социологам, педагогам и психологам безграничные возможности для классификации родителей в зависимости от выбранных социальных оснований.
Как утверждал британский философ-аналитик Дж. Л. Остин, занимавшийся прояснением выражений обыденного языка для целей права, повседневным терминам в праве предписано «обостренное понимание… для того, чтобы прочувствовать его восприятие как правового явления»[92]. Эта самая обостренность термина «родитель» и понятия, за ним стоящего, задана ему правовым контекстом. Следствием этой заданности является неделимость родителей на виды, весьма ограниченная возможность их классификации, однозначность нормативных оснований признания лица родителем, известность и предсказуемость последствий такого признания.
Эти данности, заключенные в нормы права, указывают на то, что мир юридического родительства строг, а потому немногозначен. Он сродни емкой правовой формуле, в которой каждый символ является ее частью. Отказаться от этой системообразующей научной ассоциации – значит встать на путь юридических упрощений, разрывов, противопоставлений, обхода и игнорирования того заглавного, что общезначимо для правовых суждений о родителях и родительстве. В этом состоит причина невозможности реализовать те призывы, которые поступают со стороны социологической науки в адрес юриспруденции, призывая «признать, что у ребенка все чаще может быть более двух родителей, поскольку рост числа „нетипичных“ родительских ситуаций исключает распределение родительских мест только по рождению»[93].



