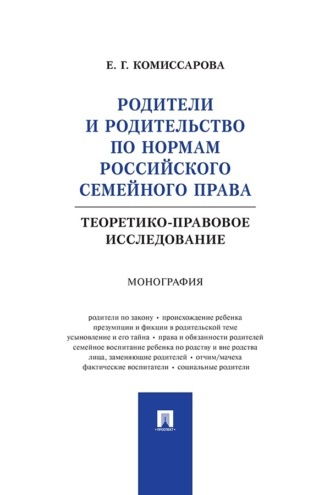
Полная версия
Родители и родительство по нормам российского семейного права (теоретико-правовое исследование). Монография
В тексте также нет отдельных оговорок об опциях пола родителей. Автор признает, что концепция «брак для всех» во многих странах стала катализатором теоретико-правовых и частично законодательных изменений в институте родительства. Их цель ввести в нормативный текст и доктрину права социальные (фактические, психологические, поведенческие) основания для целей родительской идентификации. В данной работе в качестве данности принят тот порядок организации законных родительских статусов, который основан на гетеронормативной ориентации отечественного конституционного и семейного законодательства.
Не исключено, что автор получит упрек в том, что в этой книге слишком многое упущено. К числу упущений может быть причислено отсутствие суждений о несовершеннолетних родителях, об ограничении и лишении родительских прав и обязанностей, об охранительных опекунских институтах в их сегодняшнем надзорно-контрольном значении и ювенально зависимых детях. При всей важности этих институтов автор абстрагировался от них для того, чтобы не превратить эту книгу в трактат, а сосредоточиться на том знании, которое в научном отношении является наиболее методологически ценным для перспективных научных дискуссий о родителях и родительстве в их позитивной направленности.
Общеизвестно, что континентальное семейное законодательство – это в первую очередь система позитивных норм, опора на которые служит источником позитивного научного мышления. Как заметил американский юрист XX в. Л. Фуллер, рассуждая о познании проблем «тружениками юридического сада», «никто не сможет многое узнать о проблемах садоводства, если он изучает сад, разрушенный ураганом или истощенный в результате засухи»[7]. Следуя правилам академической вежливости, автор направил свои усилия на создание позитивного юридического образа родителя и исследование всего того, что к этому срезу проблемы примыкает, не умаляя при этом значение охранительных аспектов родительской проблематики.
В попытках открыть, интерпретировать, научно описать и задать юридическому повествованию о родителях диалогичный характер, автор постарался максимально учесть имеющийся теоретический ресурс по проблеме, частью которого являются дореволюционные, советские и постсоветские труды, а также историко-правовые современные труды зарубежных авторов. Он отражен в сносочном материале книги и получился объемным. Обращение к каждому из поименованных источников не является слепым «погружением» в виртуальный мир цитат и ссылок со стремлением соответствовать «общепринятым правилам». Это попытка быть объективным и убедительным за счет всестороннего подхода к оценке всей той новизны, которая хлынула в родительскую проблематику, поставив ее в положение если не теоретического тупика, то «перепутья». Часть источников, размещенных в сносках, предназначена для более углубленного познания тех проблем, которые обсуждаются на страницах книги и представлены в качестве рекомендуемых для дальнейшего читательского прочтения. Все отсылки к цитируемым взглядам с необходимостью имеют научно-предметное сопровождение (социолог, антрополог, юрист, педагог и т. д.), а в случае с зарубежными авторами указывается их страновая принадлежность.
В сносочный материал не попали лишь те работы, которые на данный момент нельзя причислить к апробированным, а также те, которые повлияли на содержание текста лишь в незначительной части. Но автор в равной мере благодарен всем ученым, чьи теоретические усилия стали предпосылкой для написания работы.
Публикуя эту книгу, автор выражает искреннее намерение, что ее материал поможет улучшить методологию семейно-правовых исследований по родительской проблематике, обновит существующий научный дискурс и позволит увидеть новые научные перспективы в ее исследовании.
Методологическое введение
Новые теоретико-правовые результаты могут быть получены и признаны при условии известности той методологии, которая обусловила их получение. Для науки семейного права вопрос о методологическом регламенте был и остается актуальным[8], и автор должен обосновать, почему это так.
Близость детско-родительской тематики к повседневной жизни, общедоступность ее правовой базы и не самый сложный язык описания принесли в юридический дискурс о родителях большой объем популярных, эмпирических и просто интуитивных представлений. Нет смысла рассуждать о их пользе или вреде для юриспруденции. Не имея особых обременений в виде следования жесткой логике права, необходимым юридическим обобщениям и оглядкам на систему позитивного права, такое знание в той или иной степени присутствует во всех гуманитарных областях.
Однако нейтральное отношение к так называемому осведомительскому знанию заметно слабеет, когда приходит понимание о том, что оно все чаще оказывается в роли конкурента научно-правовому. В таком случае неизбежно возникает вопрос как повысить строгость и одновременно устойчивость последнего. Ответ известен – создавать методологически подготовленные научные теории. В этом смысле безусловным примером является наука советского семейного права с не самым большим числом ее представителей на то время. Именно научные теории выполнили в то время роль несущего стержня, который позволил этой науке укрепить отведенную ей самостоятельность.
В этом смысле современная родительская проблематика серьезно отстает. Теорий, устроенных на строгостях юридического позитивизма, способных поддержать стандарты научности и предложить аргументированные научные идеи, науке семейного права остро недостает. Наряду со знанием научно-теоретическим, здесь привычно существует большой пласт постзнания, созданного за счет подборки мнений, точек зрения и пересказов уже созданных доктринальных построений. Плюс разросшееся классификационное знание о родителях, свободное от необходимых научно-теоретических обобщений.
Линией демаркации между априори сложным, объективным и теоретически обоснованным научным знанием и знанием повседневным, где правит обыденная логика и прием произвольных классификаций, служит категория метода. Отсекая истинно научное знание, от того, которое создано «вне логики» и поверх общего, а значит универсального, эта категория ориентирует исследователя на соблюдение стандартных академических правил.
Следуя историко-философской логике, автор подчиняет свои суждения как общенаучным, так и частнонаучным (специальным) методам исследования. Первая группа, как известно, носит стандартно-обязательный характер. Все методы, ее наполняющие, нашли свое масштабное описание в философии, общей теории права, логике[9], в предметных методологических исследованиях[10] и являются атрибутами любого теоретико-правового исследования. Обычно к ним причисляют методы анализа, синтеза, абстрагирования, аналогии, идеализации, индукции, дедукции, классификации, аргументации, обобщения, экстраполяции, гипотезы. Все эти методы вовлечены в процесс настоящего исследования. Для автора они выполняют роль методологических контролеров, которые «следят» за научной достоверностью текущих и итоговых теоретических суждений.
Унитарные общенаучные методы дополнены такими частнонаучными как догматический анализ, формальной логики, философского анализа и системно-правовым. А также такими специально-юридическими методами как историко-правовой, междисциплинарный и сравнительно-правовой.
Вовлечение трех последних методов во многом определило теоретический дизайн проводимого исследования и степень погружения в поставленную проблему. Автор постарался вернуть в теоретический дискурс те методологические контексты, которые выпали из него в начальный период советской истории становления семейного права как отрасли. Следствием существующего тогда идеологического давления стал запрет разных философских школ, полуподпольное существование в рамках других наук социологии и этнографии, отсутствие подлинного научного интереса к «буржуазным правопорядкам», которые можно было только критиковать. Научная чувствительность к осмыслению этих контекстов не до конца восстановлена и сегодня. Наращивать эти потери помогает обращение к философскому знанию и тому, которое создано в социологии и социальной антропологии в конце XX – начале XXI в., а также к ставшему общедоступным зарубежному научному и законодательному опыту. Этим объясняется частота погружения автора в историко-правовую реальность, в научное пространство антропологии, социологии, иногда психологии и педагогики, а также в текущие зарубежные теоретико-правовые и законодательные дискурсы о родителях.
Тактика простой ссылки на названные частнонаучные методы с умолчанием о том, как они работают в настоящем исследовании, способна обернуться против автора и его труда, основные идеи которого могут остаться нераспознанными. Поэтому каждому из этих методов предпослано краткое самостоятельное описание, свидетельствующее о том, что случайности в том, что исследованием построено в том числе и на них, нет.
Историко-правовой метод исследования. Далеко не все аспекты родительской проблематики могут быть описаны на уровне одного лишь абстрактного юридического знания. Уникальные юридические события этой темы и их межвременная связь зафиксированы также во множестве историко-правовых источников. Последними юридическая проблематика родительства особенно богата – «следы истории» присутствуют везде. Но авторский оборот на эту источниковую базу не связан с одной лишь силой теоретической инерции воскресить историческое наследие. Помня о том, что повторение не единожды написанного не скрепляет научное знание, а лишь рассеивает его, автор обращается к наименее известным философским и историческим страницам темы. Цель их описания восполнить недостаток историко-правового знания в тех вопросах, которые традиционно исследуется «вне истории и философии» и высветить наиболее актуальные аспекты исследуемых родительских и прородительских явлений, которые в порядке идеологической, научной и законодательной преемственности проникли в настоящее и во многом определили его текущее состояние.
Обращение к историко-правовому экскурсу также позволило объективно раскрыть первоначальный смысл правовых норм о родителях. Автор видит в этом особую роль историко-правового метода, который отводит должное место традициям в процессе создания норм родительского права и поддержанию их точного юридического значения. Его привлечение позволило автору избежать предположений о том, что имеющиеся расхождения действующих норм о родителях с реально существующими родительскими практиками, не является следствием некачественного или недостаточного регулирования этих отношений в прошлом и настоящем. Проблема в большей степени лежит в упрощенном подходе при описании той новизны, которая окружает семейно-правовые знания о родителях.
Представленные автором исторические экскурсы сужены до той самой предметности, которая определена названием книги. Они с необходимостью вовлечены в те ее части, где философская и историко-правовая мысль прошла стороной: философские начала в теме родительского признания и правообязывания, познание которых позволило устранить из авторского повествования то, что навсегда ушло в историю, и возвысить то, что в качестве неотменяемого временем обрело черты преемственности; пути сближения приемной семьи с открытым усыновлением и биологической в советской истории усыновления; историко-правовое и научное прошлое отчимства и фактического воспитания.
Относительная новизна авторских экскурсов не снижает академической ценности тех успешных, глубоких и развернутых семейно-правовых исследований, которые беспристрастно и аргументированно описали связь прошлого и современного в семейно-правовом развитии родительской темы (Н. А. Бурданова, А. Г. Гойхбарг, А. И. Загоровский, Ю. А. Королев, Д. И. Мейер, А. М. Нечаева, Н. С. Нижник, Д. А. Пашенцев, С. В. Пахман, А. И. Покровский, П. Л. Полянский, А. М. Рабец, Н. А. Семидеркин, В. А. Томсинов, Г. Ф. Шершеневич). Все эти труды, многие из которых названы автором поименно, легли в основу проводимого исследования.
Метод междисциплинарного исследования. У всех гуманитарных наук есть собственные научные причины интересоваться родителями и родительством. Это обусловило тот объективный факт, что наука семейного права имеет широкое междисциплинарное окружение, не считаться с которым ее представители уже не могут. В узнавании этого окружения автор усматривает элемент методологического приращения, который помогает создать относительно целостную научную картину о родителях и родительстве в семейном праве, прояснить уже известные вопросы темы, а также открыть перспективные аспекты познания тех внутриотраслевых вопросов, которые недостаточно исследованы на уровне моноотраслевого знания (происхождение ребенка, соотношение родства кровного и социального, социальное родительство, фактическое воспитание и др.).
Активное вовлечение в проведенное исследование междисциплинарного метода не равно признанию того, что его автор является сторонником тех виртуальных взглядов, согласно которым междисциплинарность априори сопутствует семейному праву[11], а исследование детско-родительской проблематики обязательно должно носить «комплексный междисциплинарный характер»[12]. Неуравновешенные суждениями о методологической стратегии таких исследований, эти взгляды больше тяготеют к демонстрационным.
Вовлечение междисциплинарного метода в научное повествование первой, второй и последней глав книги, не дает оснований утверждать, что проведенное исследование представляет собой «междисциплинарный научный продукт». Объявить исследование междисциплинарным значит указать, что оно имеет цель, которая выходит за пределы (семейного) права, а значит будет построено не только на «родном» юридическом материале, но и с использованием категориального ряда, концепций и методов одной или нескольких гуманитарных дисциплин. Такой цели автор не ставил.
Попытка размышлять с помощью междисциплинарного метода – это в большей степени научная необходимость, обусловленная заявленной структурой книги. Следование ей обусловило обращение к областям социологического и антропологического знания в целях отбора и теоретического анализа внешних аргументов, которые описывают социальную брачно-семейную реальность. Благодаря их постижению автор открыл возможность увидеть, что термин родитель и производные от него термины, образованные из корня «род», в этих науках плюралистичны. Это значит, что родительское имя может быть приписано любому лицу, которое «ведет себя как родитель» и действует в интересах ребенка.
Подобное разнообразие культурных родительских стратегий, действующих на уровне социально приемлемых, и подробно описанных в других гуманитарных науках, не свойственно праву. Поэтому гносеологическая ценность такого внешнего и эмпирического по своей природе знания в основном ограничена предметными границами тех дисциплин, в которых оно создано (культурная антропология, социология, психология, педагогика). Его правовое узнавание является одним из способов приблизиться к реальному миру семьи и семейных отношений. Такое сближение с «сущим» конечно не означает, что конструкции, зародившиеся, в других гуманитарных науках, могут быть перенесены без изменений в юридический дискурс. Это возможно лишь при том условии, если предметные аргументы и теории, с помощью которых создано внеправовое знание, будут преобразованы в теории юридические. Отдельные теоретические попытки такого преобразования предприняты при обсуждении проблем происхождения ребенка, родства, семейного воспитания ребенка третьими лицами.
Метод сравнительно-правового исследования. Овладение юридическим языком, на котором строятся родительские концепции в доктрине общего права и в континентальных странах, – важная часть проведенного исследования. У каждой нации, как известно, свой характер и свои юридические потребности. Эту мысль вполне явно постулировали составители дореволюционного проекта Гражданского Уложения Российской империи, указывая, что «семейственное право более, чем другие части гражданского права отражает национальные особенности и имеет более глубокие корни в историческом прошлом народа, что требует от редакционной комиссии большой осторожности[13]. Актуальна она и сейчас, передавая новым поколениям ученых истину о том, что все, что касается семьи и ее родительской подсистемы исторически пронизано национальным (как говорят этнографы, – почвенным) и традиционным – всем тем, что отвечает русскому менталитету с его тысячелетней религиозностью, исторической многонациональностью, многоконфессиональностью и многокультурностью.
Считается, что эти особенности не способны к нейтрализации. В этом смысле следует согласиться с К. М. Арслановым, высказавшим утверждение о том, что качества исключительности и самобытности национального семейного права сообщают о научной неоправданности суждений, направленных на описание взаимосвязи, взаимозависимости, конвергенции, рецепции с иностранным семейным правом[14].
И тем не менее, вопрос о том, насколько можно понять и описать семейную жизнь людей, живущих в других культурах и прочих социальных контекстах, не является столь однозначным. Весьма полезное знание о том, что любая попытка использовать право вне среды его происхождения неизбежно влечет за собой отклонения[15], не должно быть абсолютным препятствием к тому, чтобы прибегнуть к научному анализу доктрины и законодательства зарубежных стран. Дело не только в том, что международное измерение национального права стало далеко не второстепенным в условиях глобального мира. Этот путь оправдан еще и потому, что он позволяет избежать внутригосударственной замкнутости семейного права и законодательства, а в отдельных случаях и явного отставания от цивилизованных стандартов за счет «приобщения к количественно более богатому и содержательно более глубокому исходному материалу, созданному в других правопорядках»[16]. Как зафиксировано в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации, внедрение полезных моделей зарубежных семейных политик не исключено, но «с учетом отечественных национально-культурных особенностей и традиций»[17].
Современное научное сообщество уже вполне определилось не только с сущностными признаками метода сравнительного правоведения, но и с его концептуальными принципами, обычно транслируемыми в актуальной учебной литературе через указание на принцип объективности, всестороннего учета исторических, национальных, социально-экономических, политических условий, принцип функционализма и сравнимости[18]. Известны и критерии методологической корректности, обязательные к учету при вовлечении этого метода в теоретико-правовые исследования. Они сформулированы мэтрами компаративистики, указавшими на необходимость учитывать в сравнительно-правовых исследованиях такие пункты, как «историческое происхождение и развитие правопорядка; специфика развития и состояния юридической мысли; особенности правовых институтов; вид источников права и их толкование; идеологические факторы»[19].
В идеале знания об этих показателях и других неявных факторах, которые влияют на семейно-правовое развитие конкретной страны (наличие или отсутствие демографических проблем; качество и количество семейно-правовых исследований; нагруженность судебной системы семейными спорами; и др.), являются значимыми для любого сравнительно-правового исследования по семейному праву. Владение ими и способность в них ориентироваться позволяют увидеть и принять тот факт, что сходные семейно-правовые проблемы необязательно ведут к общим правовым решениям. О том, что это так, сообщают статистические и аналитические обзоры официального[20] и неофициального уровня[21], проводимые в социологической науке.
В намерении следовать при работе с методом сравнительного правоведения вышеизложенным ориентирам и избежать повествования «о праве других» в форме конспекта права множества различных государств, автор использует для сравнения доктринальные и нормативные тексты не любой страны, чей языковой материал оказался доступнее и читабельнее, а конкретных стран: Германии, Франции, Нидерландов, США и Англии. Авторская позиция основана на том, что «континентальное гражданское право и общее право не чужды друг другу»[22], но в каждой из этих правовых систем есть как общее в виде приоритета и исключительности биологогенетического родительства[23], так и особенное.
Первые две страны накопили самый большой объем исторического знания по частноправовым дисциплинам, благодаря чему их правовая наука быстрее других превратилась из «отсталой, похожей на провинциалку, в науку, ставшую в один ряд с естественными и социальными»[24]. Германия является первой страной в мире (XIX в.), в которой под влиянием идей Ф. К. фон Савиньи семейное право, спродуцированное триадой «брак, происхождение, родители», было противопоставлено праву обязательственному[25], и впоследствии, став самостоятельной юридической темой, распространилось по всем европейским правопорядкам.
Привлекательность немецкого опыта не в последнюю очередь связана с текстом Германского гражданского уложения (далее по тексту – BGB)[26], в структуре которого расположены нормы о родительской опеке (заботе). В середине XX в. текст BGB был признан важным юридическим достижением в мире, получив метафорическое сравнение с «очень тяжелым, очень мощным и эффективным локомотивом немцев, который доставляет в любое место, куда ведут рельсы»[27]. Имея статус социального государства, ориентированного на всеобщее благосостояние, Германия проводит устойчивую семейную политику[28].
Формулировка «родительская забота/опека» (elterliche Sorge/Gewalt), производная от древнегерманского munt – покровительство, защита, отражает культурную специфику и самобытность немецкого законодательства, явно указывающего на путь диспозитивного регулирования отношений родителей и детей[29] и в меньшей степени охранительного[30]. Сущностный нормативный смысл такого регулирования сводится к тому, что ответственность за ребенка принадлежит родителям. Именно они, а не государство отвечают за ребенка, а потому должны быть дисциплинированными[31]. Иное может стать основанием для перераспределения объема родительской опеки между родителями ребенка и государством[32]. Частью данного института являются конституционные нормы[33], нормы материального гражданского права, в структуре которого находится семейное законодательство[34], правила гражданского и неконфликтного судопроизводства[35] и право социального обеспечения[36].
К числу особенностей немецкого семейного законодательства относится всемерное стимулирование спорящих родителей к переговорам и согласительному общению. Распространенность таких споров в специализированных семейных судах дала основания утверждать, что на деле право «консенсусного решения» превратилось в «едва управляемую юридическую чащу индивидуальных исков, которые могут быть предъявлены в судебном порядке, неся в себе „зародыш“ разрушения»[37]. Однако для законодателя такой подход видится одним из способов учесть новизну в изменившейся родительской реальности и одновременно сохранить должный образ родителя, который соответствует классическому социальному порядку.
Введение концепции «брак для всех» и принятие ее следствия в виде однополого родительства вполне определенно позиционируется в нормах семейного законодательства как необходимое исключение, не колеблющее исходных нормативных посылов. Законодательная система Германии остается верной семье с двумя родителями, а потому не признает на уровне закона «родительской роли третьей стороны», которая рассогласована с «правилом двух».
Франция была второй (после Германии) европейской страной, чьи «своды законов блистали в эпоху Просвещения»[38]. Сегодня это одна из стран, где нормативное производство и институты, связанные с семейными вопросами, являются особенно активными[39]. Ребенок сконструирован «как дитя нации» или «ребенок, подопечный государству» (Pupille de l’État) – тот, за которого отвечает государство, до тех пор, пока он не будет усыновлен (ст. 224-4 Кодекса социальных действий и семьи)[40]. Семейно-правовая юрисдикция этой страны, в отличие от Германии, является дуалистичной. В этом находит отражение тот факт, что «континентальные правовые системы получили римское право в разных пропорциях и разным образом»[41].
Пережив мощное влияние идей буржуазно-демократической революции и немецкой юридической мысли, эта страна в отдельных вопросах родительства идет своим путем, всячески стремясь удержать равновесие между традициями, непрерывностью и необходимыми изменениями. Так, несмотря на рекомендации Совета Европы (1984 г.) включить во Французский гражданский кодекс 1894 г. (далее – ФГК)[42] вместо родительских прав и обязанностей понятие «родительская ответственность», которое наиболее точно отражает концепцию родительского обязательства, ФГК сохранил понятие родительские права (ст. 371-1), введенное в его текст в 1977 г.
Во Франции сохранена древняя практика анонимных родов, не предполагающих установления материнского происхождения. Наряду с закрытым, есть простое усыновление, которое допускает параллельное сосуществование двух родственных связей. Есть такой привилегированный инструмент как делегирование родительских прав и обязанностей (дезагрегация), служащий двум целям: для временного замещения родителей третьими лицами и для разделения родительских прав с третьими лицами в целях совместного осуществления с ними таких прав во благо ребенка.

