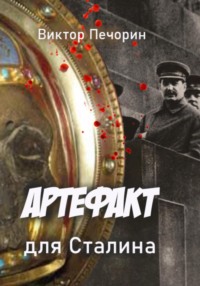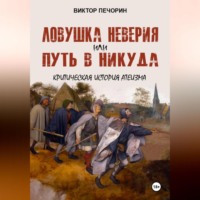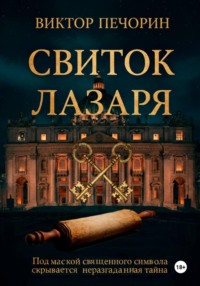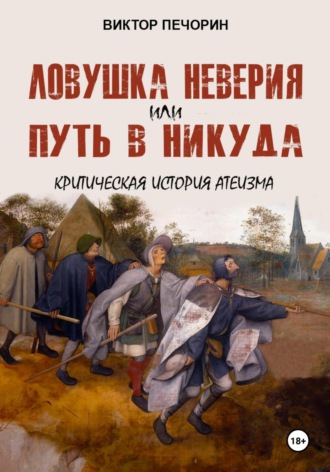
Полная версия
Ловушка неверия или Путь в никуда. Критическая история атеизма
После Аристиппа младшего, который систематизировал учение основателя киренейской школы, своего деда, придав ему законченный вид, логика дальнейшей эволюции гедонизма закономерно привела к разделению этого учения на три ветви, наглядно проявившиеся в деятельности трёх последователей Аристиппа.
Один из них, Гегесий, пришел к пессимистическому выводу, что провозглашение стремления к удовольствиям единственной целью жизни, неизбежно приводит к разочарованию.
Мы получаем удовольствие, – рассуждал Гегесий, – удовлетворяя свои потребности. Но пока потребности не удовлетворены, это доставляет нам страдания. Страдания от неудовлетворенности могут длиться долго, тогда как процесс удовлетворения скоротечен. Средства удовлетворения потребностей ограничены, а потому достаются с трудом и доступны лишь немногим, доставляя страдания проигравшим. Но и тем немногим это не приносит счастья, поскольку то, что дается легко, большого удовольствия не доставляет.
Таким образом, заключал Гегесий, удовольствия неотделимы от страданий. Страдания предшествуют удовольствиям, сопровождают их и являются их последствиями. Следовательно, провозглашенная гедонизмом цель обманчива и недостижима.
Другой ученик Аристиппа, Анникерид, видел выход из этого тупика в более широком понимании удовольствия. Он говорил, что удовольствие воспринимается нами не непосредственно, а как некий акт сознания. Стало быть, нужно понимать удовольствие не как чувственно-телесное состояние, а как состояния духа и разума. Признание духовных и интеллектуальных наслаждений расширяет круг возможных удовольствий. Человеческий разум способен испытывать удовольствие не только от краткого мига телесного наслаждения, но и от его предвкушения, которое может иметь гораздо большую длительность. При определенных обстоятельствах даже отказ от телесного наслаждения может доставлять удовольствие. Причем духовные наслаждения, в отличие от телесных, не скоротечны. И удовлетворение духовных потребностей не предполагает потребления материальных ресурсов, а значит, не приходится за них конкурировать и испытывать страдание от отсутствия доступа к ним. Учение Анникерида, в отличие от Гегесия, было оптимистичным.
Феодор, который по одной версии был учеником Аристиппа младшего, а по другой – Анникерида, под влиянием своих атеистических убеждений предложил третий вариант дальнейшего развития киренейской философии, доведя учение о наслаждении до крайности.
Если наслаждение – это абсолютное и единственное «благо», значит всё, что препятствует наслаждению, есть. безусловное «зло», с которым следует вести бескомпромиссную борьбу. Первым делом, по мнению Феодора, следовало устранить религию и веру в существование богов.
В отличие от других киренаиков, индифферентных к религии, Феодор занял по отношению к ней непримиримую позицию. Почитание несуществующих богов – считал он, – занятие не только бессмысленное, но и вредное, идущее вразрез с благом людей. Требуя совершения обременительных обрядов, налагая на человека запреты и ограничения, объявляя греховными его естественные стремления, религия препятствует человеку получать удовольствие, а потому должна быть объявлена злом и совершенно изгнана из. человеческой жизни.
Если Сократ, Демокрит и Диагор отвергали и высмеивали простонародные представления о богах, называя их суевериями, то Феодор, по свидетельству Цицерона, отрицал не только суеверия, но и любые, даже самые благочестивые проявления религии32.
Правда он не только религию отвергал, но и науку, считая, что в науках и логике пользы нет, и что «достаточно постичь смысл добра и зла, чтобы говорить хорошо, не ведать суеверий, и быть свободным от страха смерти»33.
Ничто не должно препятствовать получению удовольствий, ничто не должно сковывать, – ни логика, ни вера в богов, ни законы государства, ни общественное мнение, ни обычаи, ни правила морали и нравственности.
В античном мире к числу несомненных добродетелей относились любовь к отечеству, готовность жертвовать ради него даже самой жизнью. твердость в клятве, дружба, правдивость, а предательство, измена, клятвопреступление, лжесвидетельство категорически порицались.
В качестве примера самоотверженного патриотизма древние авторы приводили подвиг римского юноши по имени Гай34 из патрицианского рода Муциев, который, будучи схвачен осадившими Рим врагами, на их глазах сжег свою правую руку на горящем жертвеннике «будто ничего не чувствуя». Поступок юного римлянина так поразил и напугал противников, что они отпустили его, и, сняв осаду, покинули римские земли.
Противоположный пример – предательство Эфиальта, который за вознаграждение указал враждебным персам путь в обход Фермопильского ущелья, что позволило персам перебить всех воинов, защищавших Фермопильский проход, включая спартанского царя Леонида, и вторгнуться в Грецию. Все греки. презирали и ненавидели предателя Эфиальта. Его имя стало нарицательным. Этим именем даже назвали мифологического демона. виновника ночных кошмаров.
По какой причине общественное сознание. порицало предателей и превозносило самоотверженных героев, понятно: от действий тех и других зависела судьба всего народа. Сколько городов не было бы разрушено и сколько людей остались бы живы, если бы не предательство Эфиальта? Сколько граждан осажденного Рима, включая женщин и детей, спас от голода, болезней и вражеских стрел Гай Муций, пожертвовавший своей правой рукой?
Однако для Феодора атеиста всё это не имело значения. На его шкале ценностей было только две отметки: удовольствие и страдание. Все остальные явления, не подпадающие под эти понятия, он считал этически нейтральными. Предательство, патриотизм, лжесвидетельство, прелюбодеяние – всё это само по себе не хорошо и не плохо. Если совершение этих поступков приносит вам удовольствие – их можно оценивать как добро, а если заставляет страдать – это зло.
С точки зрения Феодора, поступок Гая Муция не достоин похвалы. Парень причинил себе дикое страдание, сжигая собственную плоть, и остался без правой руки, из-за чего получил прозвище Сцевола (лат. Scaevŏla) – «левша». А вот Эфиальт наверняка получил удовольствие, тратя деньги, полученные за свое предательство, на вино и девочек. Мудрый человек, по Феодору, должен поступать как Эфиальт, а не как Гай Сцевола.
А как же патриотизм? Любовь к своей стране, к своему городу? А это всё тоже значения не имеет, – учил Феодор. Для таких понятий на его шкале ценностей места не было. Он первым провозгласил космополитическую формулу: весь мир моя страна, я – гражданин мира. Моя родина там, где мне хорошо, где я могу получать удовольствие. А до всего остального мне нет дела.
Одной из безусловных ценностей античные авторы считали дружбу.
«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, – утверждал Цицерон; – исключить из жизни дружбу – все равно что лишить мир солнечного света… Без истинной дружбы жизнь – ничто».
«Друг – это другое я» – изрек один из величайших мудрецов древности Зенон Элейский.
«Ничто, кроме самих небес, не лучше друга, который действительно друг» – соглашается с ними Тит Макций Плавт.
«Нам помогает не столько помощь наших друзей, сколько уверенность в их помощи», – уточняет Эпикур, последователь киренейской школы.
Эти высказывания, сохранившиеся в истории, показывают, насколько ценной людям античности представлялась дружба.
А вот у Феодора атеиста и здесь было своё особое мнение. Мудрец, – говорил он, – не имеет друзей и рассматривает дружбу лишь как взаимную выгоду, а сам по себе ни в ком не нуждается.
Довольно циничный подход, не правда ли?
В дальнейшем развитии мысль Феодора принимает откровенно аморальный характер.
Законам надо повиноваться, только если это тебе выгодно. Мораль – всего лишь средство для «обуздания толпы», а следовать надо своим эгоцентрическим побуждениям.
Если единственное благо – это наслаждение, а единственное зло – страдание, – говорит Феодор, – не следует считать злом ни кражу, ни святотатство, ни клятвопреступление, ни измену. Нет ничего постыдного в воровстве, прелюбодеянии или святотатстве. Можно делать что угодно: красть, прелюбодействовать, святотатствовать, если к этому имеется природная склонность35, игнорируя при этом общественное мнение, которое сформировалось с согласия глупцов. Мудрый человек избегает таких поступков не потому, что считает их дурными, а потому что не желает быть наказанным, то есть чтобы избежать страдания. Имей же он гарантию безнаказанности, он, не колеблясь, пошел бы на любое «преступление», если бы его совершение сулило ему наслаждение.
Этим оправданием аморальности наш герой пробивает последнее дно, доведя атеизм. до его логического завершения.
Лаконичную, но при этом исчерпывающую характеристику учению Феодора можно найти у Епифания Кипрского, который указывает на. прямую связь между безбожием Феодора и его аморализмом:
«Феодор, прозванный атеистом, утверждал, что слова о Боге – пустословие, ибо он думал, что божества нет, – и ради этого убеждал всех красть, нарушать клятву, грабить и не умирать за Отечество; он говорил, что одно для всех отечество – мир; говорил, что только счастливый хорош, но что несчастного должно избегать, хотя бы он был и мудрец, и что неразумного и непокорного должно считать богачом»36.
Современники восприняли эту теорию по- разному.
«Учение», оправдывающее совершение поступков, осуждаемых обществом и религией и позволяющее ради собственного удовольствия не считаться с интересами других, нашло немало приверженцев, из которых в скором времени. сформировалась целая секта, названная «феодореи», по имени их духовного лидера. Доктрины этой секты Феодор сформулировал в ряде написанных им книг, в которых оправдывал и обосновывал своё учение. В том числе он написал книгу под названием «О богах» (др. – греч. περὶ Θεῶν), в которой отрицал существование богов. и высмеивал религиозную веру.
Несмотря на свою непримиримость по отношению к богам, Феодор, по свидетельству Диогена Лаэртия, не возражал, чтобы его самого называли… Богом. Не исключено, что Богом своего лидера стали называть члены его секты, предположив, что отвергнутые им «боги, которые всё запрещают» (др. – греч. ο θεός απαγορεύει) – это ненастоящие боги, а настоящий Бог, тот, кто дарует свободу делать всё, что хочешь (др. – греч. θεός δωρητής), то есть сам Феодор, имя которого можно перевести как «Бог дарующий».
У здоровой части общества деятельность секты феодореев и учение их лидера, оправдывающее асоциальное поведение и попирающее традиционные ценности, вызвало отвращение и отторжение, что послужило поводом к изгнанию проповедника аморализма из Кирены.
Изгнанный из родного города Феодор нашел пристанище в Афинах, где продолжал проповедовать свое учение. Однако афиняне, усмотрев в деятельности софистов-атеистов и поддерживающей их аристократической партии угрозу традиционным ценностям и демократическим институтам, предъявили ему обвинение в нечестии37, такое же, как Диагору и Сократу. Избежать суда Феодору помог сочувствующий ему Деметрий Фалерский, бывший в ту пору диктатором Афин. Правда, через некоторое время и сам Деметрий, лишившись поддержки афинян, вынужден был бежать в Египет (ок. 297 года до н. э.), где его приютил тамошний правитель Птолемей I Сотер. Не дожидаясь, пока разгневанные афиняне привлекут его к суду, наш герой последовал за своим покровителем. Но ничто не вечно под луной. После смерти Птолемея I (это случилось в 283 или 282 году до н. э. ) отставной афинский диктатор и в Египте оказался не в чести. Новый правитель страны отправил его в ссылку, в деревню, где тот вскоре и умер. Атеисту по прозвищу «Бог» ничего не оставалось, как искать себе другого покровителя. И он нашел его в лице авантюриста Магаса, который сначала был египетским наместником Кирены, а потом провозгласил себя царем этого города. Покровительство самопровозглашенного царя позволило. Феодору провести остаток жизни в родном городе. После его кончины секта феодореев разбежалась, оставив по себе у граждан Кирены недобрую память.
Главая пятая. Онтогенез атеизма
На примере Демокрита, Диагора и Феодора, а также индийских локакятиков можно проследить этапы эволюции атеизма в дохристианскую эпоху. Их учения и их личные истории наглядно демонстрируют, как атеизм естественным образом приводит к аморализму, асоциальному поведению, крайнему эгоизму и, достигнув предела деградации, дальше которого двигаться уже некуда, разрушает сам себя.
Таково было завершение первого цикла онтогенеза атеизма: он проистекает из материализма, а заканчивается аморализмом. В дальнейшем этот цикл будет постоянно повторяться в той же самой последовательности, будто бы блуждая в том же лабиринте, поскольку мировоззрение, основанное на отрицании, обречено на бесплодие и не способно к творческому развитию.
Последняя стадия античного атеизма совпала с появлением христианства, пришедшего на смену эллинистическому политеизму, и это породило парадоксальную коллаборацию атеистов с раннехристианскими апологетами. Эти две, казалось бы, полярно противоположные силы объединила общая нелюбовь к языческой религии. Атеисты высмеивали и отрицали существование Зевса, Меркурия, Афродиты, Марса, Геракла и прочих божеств. Христианские богословы делали то же самое. А сторонники прежней политеистической религии обвиняли христиан в нечестии и безбожии за отказ от поклонения языческим божествам. «Они – нечестивые безбожники, отвергнувшие отечественных богов, благодаря которым держится всякий народ и всякое государство…», – отзывался о христианах неоплатоник Порфирий.
Ничто не сближает больше, чем общий враг. Христианские богословы увидели в древнегреческих и римских атеистах своих союзников, и не стеснялись публично ими восхищаться и их защищать.
«Удивляюсь я, – писал, например. Климент Александрийский, – каким это образом прозвали “безбожниками” Эвгемера Акрагантского, Никанора Кипрского, Гиппона, Диагора из Мелоса, Феодора из Кирены и многих других, которые в жизни отличались целомудрием и проницательнее прочих людей разглядели заблуждение [язычников] относительно богов»38.
Отец церкви, расхваливающий атеистов, выглядит действительно занимательно: яркий пример того, что крайности сходятся. Особенно трогательно – про «целомудрие» певца аморализма Феодора, главаря секты нечестивцев.
Впрочем, это был всего лишь тактический союз по принципу «враг моего врага – мой друг», а потому мезальянс христианства с языческими атеистами оказался недолговечным.
Подточив, подобно жучкам-древоточцам «отеческую» религию изнутри, античный атеизм сам оказался погребён под её руинами: закономерный жизненный цикл любых паразитарных видов.
Когда христианство одержало победу над язычеством, оно оказалось столь же нетерпимым к атеизму, как и его поверженные соперники. Теперь уже христиане обвиняли язычников в том же, в чем язычники совсем недавно обвиняли их: «вы,… язычники по плоти, были в то время без Христа… чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники (ἄθεοι) в мире» (Еф 2, 12).
Христианские богословы объявили безбожие главным признаком. антихриста, а распространение безбожия среди людей – сигналом, предваряющим пришествие антихриста: «…Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели…». Следствием этого отступления станет осуждение безбожников: «… да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес 2. 12).
Термин «атеизм» стал применяться (исключительно в негативном смысле) в отношении некоторых еретических учений или для обличения политических противников. Слово «атеист» считалось бранным, – его бросали как перчатку в лицо оппоненту, но никто не применял этот оскорбительный эпитет к себе.
Хотя в пылу теологических баталий, сопровождавших христианство на протяжении всей его истории, отдельные учения, не соответствующие официальной догматике, иногда и назывались атеистическими, а их авторы и последователи – атеистами (безбожниками), на самом деле они, как правило, таковыми не являлись: кому в трезвом уме захочется прослыть пособником антихриста? В записях средневековых авторов можно встретить упоминания о людях, проявляющих равнодушие к религии и не посещающих церковные службы, но объяснялось это не их приверженностью атеистическому мировоззрению, а обыкновенной ленью или невежеством.
Такое положение сохранялось на протяжении всего средневекового периода, вплоть до эпохи Ренессанса и начала Реформации. Любопытно, что новый импульс к возрождению атеистических идей исходил именно от служителей церкви.
Глава шестая. Ловушка для отступника
Измученный долгим переходом, вымокший до нитки под непрекращающимся уже несколько суток дождем, Криштовао наконец- то смог обогреться и высушить свою одежду у очага в минка – крестьянской лачуге. По крайней мере, здесь была крыша, защищающая от низвергающейся с небес влаги, и сухая циновка. Хозяин лачуги, – он назвался именем Нобу, – прежде чем их впустить, поинтересовался, не христиане ли они, часом? И не будет ли у него неприятностей? Путники заверили его, что сопровождают учёного лекаря и предложили два моммэ39 за ночлег и еду. Попробовав монеты на зуб, Нобу поклонился ученому человеку и предложил ему удобное место у очага, пока жена готовит ужин.
– А вам придется переночевать в хлеву, – сказал Нобу спутникам лекаря, – в доме для всех места не хватит.
Подкрепившись ячменным варевом, сдобренным растертыми корнями дайкона, Криштовао с удовольствием вытянул гудевшие от усталости ноги на соломенной подстилке и почти мгновенно уснул. Крестьянин и его жена ещё какое- то время возились с домашними делами, и, наконец. погасив чадящий светильник, тоже отправились на боковую. Однако их сон был прерван стуком в дверь.
– Кто? – недовольно спросил хозяин, сжимая в руке увесистое полено.
– Нобу- сан! – послышалось из- за двери. Это я, Аки, ваш сосед. – Мой сын заболел, ему очень плохо. Говорят, у вас остановился лекарь! Прошу вас, Нобу- сан, спросите его, не мог бы он посмотреть моего мальчика? Он очень страдает.
– А до утра это не подождет? Отец лекарь добирался сюда четыре дня, очень устал. Он спит.
– Боюсь, до утра Джун не дотянет. Просто спросите его. Если он настоящий лекарь, он не оставит ребенка в таком состоянии. Скажите, пусть не сомневается, у нас есть чем заплатить.
– Ладно, ждите там. Спрошу.
Вопреки опасениям, лекарь отказываться не стал. С трудом поднявшись и перевязав чистыми лоскутами кровоточащие мозоли на ногах, он поплелся сквозь ночную тьму вслед за отцом ребенка по раскисшей от дождя. глинистой тропинке, стараясь не поскользнуться и не скатиться вниз по крутому склону.
Затерянная в лесной глуши деревушка Тохо представляла собой дюжину. крестьянских дворов. разбросанных среди скал на значительном удалении один от другого, так что идти пришлось довольно долго. Наконец впереди показался дом, весьма похожий на минку господина Нобу.
Крестьянин, отец больного, проводил его к постели, на которой распластался мальчик лет девяти. Он был покрыт испариной, тяжело дышал и время от времени его худое тело сотрясали судорожные конвульсии. Перед ребенком причитала женщина, видимо его мать. В дальнем углу комнаты из кучи лохмотьев выглядывало несколько испуганных детских лиц, в другом углу расположилась старуха, что- то разминавшая каменным пестом в ступке и бросавшая на пришельца недружелюбные взгляды.
– Как тебя зовут, дитя? – спросил Криштовао, склонившись над постелью больного. Тот не ответил
– Джун. Его зовут Джун, – ответила за него женщина. – Я Ханако, его мама.
Осмотрев ребенка, ощупав его живот и проверив пульс, Криштовао спросил, был ли ребенок крещён. Крестьянин, опасливо оглянувшись, молча кивнул, показав завернутое в тряпицу грубо вырезанное из дерева распятие. Попросив немного воды, лекарь высыпал в плошку. горсть снадобья из кожаного. мешочка, размешал, и дал мальчику выпить.
– Теперь он исцелится? – с надеждой спросила Ханако.
– Питье облегчит его страдания, – ответил лекарь, – но исцелить его может только Господь. Вы знаете молитвы? Просите Бога исцелить вашего сына. Только у Него есть власть над жизнью и смертью. Una salus est misericordia Dei nostri40.
Опустившись на колени перед постелью больного, он осенил себя крестным знамением и стал читать молитву:
– Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix:
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus…
Отец и мать ребенка присоединились к нему:
– sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
Domina nostra, mediatrix nostra, advocata nostra;
tuo Filio nos reconsilia, tuo Filio nos commenda,
tuo Filio nos repraesenta41.
– Что толку в твоем Боге, если он допустил, чтобы ребенок так страдал? – злобно шипела старуха из своего угла. – Я же говорила, – не к добру это…
– Мама, мы же молимся! – попыталась урезонить её мать ребенка, – но старуха не унималась:
– Да! Я говорила… – не к добру! Да разве вы слушаете?
– Мама, прошу вас! – сказала Ханако и закрыла уши ладонями, чтобы не слышать брюзжание старухи. А та всё продолжала:
– Никогда не слушаете. Разрушили камидан42, выбросили изображения духов-ками… нет чтобы почитать ками и приносить им жертвы! Вместо этого поклоняетесь какому-то иноземному распятому богу. Распятому, как распинают преступников! Впустили в свою душу веру варваров, а теперь и самого их нечестивого лекаря привели в. дом. Это ваша вина, это за ваше непочтение и неверие богиня Идзанами нас всех наказывает!
– Аки! – взмолилась Ханако, – я больше не могу этого вынести!
Её муж встал, приподнял старуху с её циновки и, обратился к ней с такой миролюбивой речью:
– Если вы думаете, что это поможет, я не против. Пойдите к вашей подруге Тоши- сан и совершите синсэн43 богине Идзанами, попросите, чтобы она исцелила Джуна. У Тоши-сан ведь есть и камидан, и изваяние богини. А мы будем молить о заступничестве пресвятую Богородицу, мать Господа нашего Иисуса Христа.
Сказав это, он выставил старуху за дверь, благо, дождь уже совсем перестал, – и вернулся к молитве.
Ребенку, однако, становилось всё хуже. Он метался в горячем поту, стонал, на его губах выступила пена. Заметив тревожные признаки, Криштовао попросил Аки принести его дорожный мешок, оставшийся в доме господина Нобу. Сам остался присматривать за больным, менять ему повязки и давать лекарственное питье.
Когда Аки вернулся с поклажей, Криштовао, надев на себя извлеченную из мешка заботливо сложенную столу44, и крестообразно. помазав лоб ребенка елеем, стал совершать обряд причащения.
На востоке уже поднималось солнце, озаряя небо розовым сиянием, будто бы и не было тяжелых туч, изливавших на землю дождевые струи всю последнюю неделю. Солнечный луч сквозь небольшое окошко проник в комнату и упал на стену возле кровати умирающего ребенка. Джун завороженно смотрел на это свечение, окрасившее грубую стену его жилища в цвет золота. На его лице появилась улыбка умиротворения, в то время как Криштовао. продолжал над ним свое священнодействие.
Аки, со слезами на глазах созерцавший последние мгновения жизни сына, уловил вдруг в предутренней тишине тревожный звук. Прислушался. Вот опять. Будто лязг металла о металл. А потом – звук шагов. И приглушенные голоса.
– Кто- то идет, – прошептал крестьянин. – Похоже, вооруженные люди.
– Может, показалось? – засомневалась Ханако.
– Не знаю… Тихо! Вот, слышишь?
Ханако кивнула.
– Отец лекарь, отец, – тихо сказал Аки. – вам лучше уходить. Позади. огорода в кустах есть неприметная тропинка. Можно спуститься в ущелье к лесному ручью…
– Я должен закончить обряд, – ответил Криштовао. . .
– Эй, вы! – раздалось снаружи, – Это у вас скрывается кирисито но сисай? христианский священник?
– Здесь только лекарь, – ответил Аки, – мой сын болен.
– Лекарь, говоришь? Вот мы сейчас посмотрим, что там за лекарь.
Дверь в хижину была слишком хлипкой, чтобы выдержать удар. подкованным сапогом. В комнату ворвались вооруженные солдаты и возглавлявший их офицер.
– Кириситокиото? Христианин? – спросил он, указывая на Криштовао.
Отпираться было бесполезно: пурпурная стола с вышитыми на ней золотыми крестами говорила сама за себя. Туго скрутив ему руки веревкой, солдаты увели его с собой.
Путь был долгим. Отряд медленно продвигался по узким горным тропам, воины подгоняли арестованных христиан плётками и ударами копейных древков. Криштовао, как наиболее важного пленника, – на нём всё еще была стола (её завязали узлом, чтобы не потерять улику), – привязали к седлу лошади начальника воинов. Мозоли на его ногах кровоточили и воспалились, причиняя сильную боль. Облегчение приносили только слова молитв, которые он проговаривал про себя.