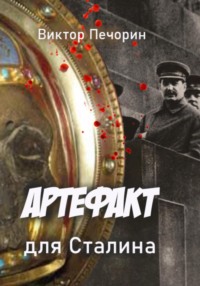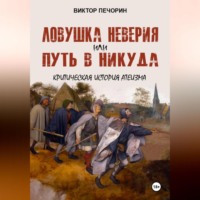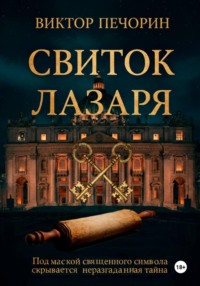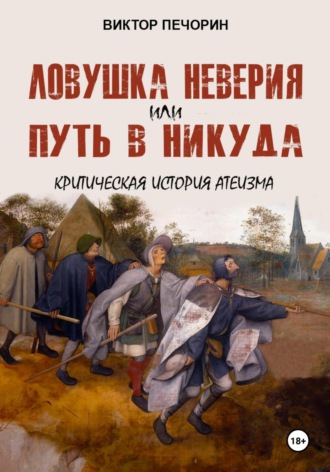
Полная версия
Ловушка неверия или Путь в никуда. Критическая история атеизма
Это раздосадовало феодала, в представлении которого священник для того и нужен, чтобы внушать крестьянам покорность и убеждать в необходимости подчиняться воле сюзерена.
Де Тули потребовал от кюре, чтобы во время мессы перед всеми прихожанами читалась особая молитва за его, сеньора, здоровье и благополучие. Мелье отказался выполнять это предписание под формальным предлогом, что предшественникам нынешнего сеньора такие почести не воздавались.
В следующее воскресенье, когда священник служил обедню. разъяренный помещик подъехал к окнам церкви и начал оглушительно трубить в охотничий рог, тем самым сорвав богослужение.
Мелье ответил на это, обличая в проповедях беззаконие и произвол, чинимый аристократами.
Очевидно, повышая ставки в этом конфликте, отец Мелье рассчитывал на поддержку церковного начальства, которое прежде было к нему весьма благосклонно. Однако к тому времени оба его покровителя покинули этот мир – каноник Жан Каллу в 1714 году, а монсеньор Ле Телье ещё раньше – в 1711.
Между тем, видя, что сломить упорство кюре ему не под силу, барон де Тули решил прибегнуть к доносу, – «настучать» на непокорного священника в управление духовного ведомства архиепископа Реймсского, обвинив Мелье в небрежении к пастырским. обязанностям, настраивании крестьян против их господина, а также в сожительстве с восемнадцатилетней девицей (очевидно, к этому времени священник обзавелся «родственницей» помоложе.
Кафедру архиепископа Реймсского в то время занимал монсеньор де Майи, будущий кардинал, стремительная карьера которого объяснялась его непримиримой борьбой с янсенистской ересью, охватившей тогда Францию, и особенно активизировавшейся после смерти Людовика Великого.
В столь сложное время, когда над Церковью нависла угроза раскола. конфликт во вверенной ему епархии представлялся архиепископу совершенно неуместным. Этот пожар следовало как можно быстрее погасить. Монсеньор де Майи был достаточно проницательным человеком, чтобы понимать, что всё дело – в амбициях и алчности сеньора де Тули. Однако выступить против представителя аристократического сословия архиепископ не мог. Чтобы тот успокоился, монсеньор сообщил, что по его жалобе в приходе кюре Мелье будет проведена епархиальная ревизия, по результатам которой деятельности отца Мелье будет дана беспристрастная оценка. Ревизия действительно была проведена, и большинство фактов, приведенных в доносах барона12 подтвердились.
В акте ревизии от 12 июня 1716 года деятельности священника дана такая оценка: «Кюре Жан Мелье невежествен, самонадеян, очень упрям и непокладист; человек он состоятельный и пренебрегает церковью, так как его доходы больше, чем десятина. Он вмешивается в решение вопросов, в которых не разбирается, и упорствует в своем мнении. Он очень занят своими делами и бесконечно небрежен, при внешности весьма благочестивой и янсенистской». Далее описывается дурное состояние церкви в Этрепиньи: в церкви не оказалось ни подобающей кафедры, ни исповедальни, а на хорах, рядом со скамьей сеньора и в обиду ему, Мелье установил скамьи для простых прихожан. Ещё печальнее выглядит церковь в деревне Балэв: колокольня покосилась, колокола вот- вот упадут, в некоторых окнах выбиты стекла.
Вызвав обоих участников конфликта к себе в Реймс, архиепископ потребовал от отца Мелье объяснений и предложил ему принести извинения присутствовавшему здесь сеньору де Тули, полагая, что на этом всё и закончится.
Однако, не поняв диспозицию, Мелье продолжал бороться с ветряными мельницами. В качестве объяснения он зачитал заранее заготовленную речь, в которой обличал беззаконие и произвол, чинимые. аристократами, и потворство им представителей власти. А извиняться напрочь отказался.
Архиепископу ничего не оставалось, как временно отстранить строптивого священника от службы, а заодно изолировать от контактов с оппонентом. Кюре было предписано остаться на месяц в Реймсе, при семинарии, из расчёта, что за это время он успокоится, придет в себя и сможет трезво оценить ситуацию. Кроме того священнику было предписано отослать жившую в его доме девицу, а по возвращении в свой приход прочитать молебен во здравие сеньора.
Санкции, наложенные архиепископом на отца Мелье, были весьма мягкими. Их даже наказанием назвать трудно, особенно учитывая, что публичную агитацию крестьян против аристократов, а тем более, речь, произнесенную в кабинете архиепископа, вполне можно было квалифицировать как призыв к бунту против существующего строя, то есть как государственную измену. Слава Богу, крамольные речи Мелье слышали только двое, из которых один был слишком туп, чтобы понять (сеньор де Тули расценил слова священника как личные нападки на свою персону), а другой – достаточно умён, чтобы промолчать.
Тем не менее, будто не понимая, что монсеньор де Майи уберег его шею от виселицы, Мелье затаил обиду не только на землевладельца, но и на архиепископа, а заодно и на всю Церковь и всё. дворянское сословие в целом.
Даже месячный локаут вдали от противника не восстановил в его душе гармонию. То ли уязвленное чувство справедливости его терзало, то ли обида из- за вынужденного расставания с восемнадцатилетней пассией, столь желанной для пятидесятилетнего мужчины (седина в бороду – бес в ребро), но в родные пенаты священник вернулся обуреваемый жаждой реванша и с готовым планом мести.
«Монсеньор архиепископ требует, чтобы я прочитал молебен о здравии и благополучии сеньора де Тули? Хорошо, я ему такой молебен устрою… все волосы себе вырвет с досады!», – мечтал отец Жан на жёсткой кровати в дортуаре Реймсской семинарии.
Правда, оказалось, что он уже опоздал. Сеньор де Тули к тому моменту, по меткому крестьянскому выражению, «дал дуба». Это ещё более расстроило несостоявшегося мстителя. Но он уже закусил удила и не желал. останавливаться: зря, что ли, целый месяц грезил об отмщении?
История неведомыми путями сохранила текст поминальной речи, якобы произнесённой Жаном Мелье над телом покойного барона.
Вопреки обыкновению, он начал эту речь с собственных обид, а точнее с упреков в несправедливом к нему отношении со стороны его начальника, архиепископа де Майи.
«Вот какова обычно судьба бедных сельских кюре, – жаловался своей пастве Мелье. – Архиепископы, которые сами являются сеньорами, презирают их и не прислушиваются к ним, у них есть уши только для дворян».
И только затем перешел к личности покойного, превратив поминальную речь в обвинительную:
«Припомните, что он был человеком богатым, получившим свои титулы благодаря случайности, свои владения благодаря пронырливости. Великим чувствам, которые только и создают подлинных благородных, он всегда предпочитал богатства, которые создают людей жадных и тщеславных.
Помолимся же, чтобы Бог простил его и ниспослал ему благость искупить на том свете то дурное обращение, которое здесь испытывали от него бедные, и то корыстное поведение, которого он держался здесь с сиротами».
В другом источнике приведен более лаконичный вариант этой речи:
«Попросим бога за Антуана де Тули, сеньора этого селения, – да обратит он его и да ниспошлет ему благость впредь не обращаться дурно с бедными и не обирать сирот».
Наличие отличающихся по объему и содержанию вариантов, а также альтернативная версия, согласно которой это была не поминальная речь, а молебен во здравие, поскольку по этой версии барон на тот момент был ещё жив, заставляют усомниться в их аутентичности и заподозрить в них более поздние экстраполяции, принадлежащие. разным авторам.
Тем не менее, эти тексты психологически достоверно передают настроение и образ мыслей Жана Мелье после всей этой истории.
Не философские соображения, очевидно, послужили для него причиной отрицания Бога и религии. Жан Мелье, как и большинство атеистов после него, пришел к этому, руководствуясь более чувствами и эмоциями, – чувством сострадания к бесправию и рабскому положению крестьян, ощущением своего бессилия противостоять хамским выходкам и унижению со стороны помещика- самодура и обидой на архиепископа, который вместо того, чтобы защитить его от распоясавшегося аристократа, принял сторону последнего.
Под влиянием фрустрации и «застревания» на негативных эмоциях (психологи именуют такое состояние «руминацией»13), частный инцидент приобрёл в сознании священника апокалиптические масштабы, перевернув привычные представления и заставив отвергнуть Бога.
Хоть и говорят, что чужая душа – потёмки, реконструировать ход его мыслей несложно, тем более, что его собственноручные записки этому способствуют.
Если бы мир был сотворен благим и мудрым Божеством, этот мир не был бы столь несовершенен и несправедлив. Если бы Бог существовал – он не допустил бы таких бедствий, страданий и безнаказанных преступлений, какие ежечасно совершаются повсюду на земле, куда не обрати взор.
Следовательно, на самом деле Бога нет. Бог выдуман сильными мира сего для того, чтобы обманом держать эксплуатируемые массы в подчинении и заставлять их безропотно сносить унижения и несправедливость существующего порядка. Такой вывод сделал Жан Мелье.
Эти рассуждения составляют главное содержание его посмертных записок. С них его «Завещание» начинается, ими же и заканчивается. Остальное содержание более чем трёхсот страниц его рукописи – это лишь попытки (не всегда убедительные) обосновать или подтвердить этот тезис.
Уже через год после смерти Мелье переписанные от руки копии «Завещания» стали распространяться во Франции, главным образом среди вольнодумцев – либертинов14. Стоимость копии доходила до 240 франков за экземпляр15.
Кому- то аргументация Мелье представляется убедительной. Если Бог – это Абсолют, то есть абсолютно совершенное существо (а другим он быть не может, ведь тогда он не был бы Богом), он не мог сотворить несовершенный мир. А поскольку мир несовершенен, значит, нет абсолютно совершенного существа. Нет Бога.
Звучит на первый взгляд вроде бы логично.
Но только на первый. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что как раз логика- то тут хромает.
Ошибка содержится в исходном тезисе, предполагающем, что творение должно быть столь же совершенным, как и творец, то есть. что свойства творца и творения должны быть тождественными.
Однако никакое творение не тождественно своему творцу. Это даже в обыденной жизни так. Разве портрет Джоконды обладает теми же гениальными свойствами, как написавший его Леонардо да Винчи? Разве творения Леонардо обладают разносторонними познаниями, мастерством, оригинальностью мысли своего творца? Увы, кусок доски размером тридцать на двадцать один дюйм с присохшей к нему краской не обладает подобными совершенствами. И ведь никому не приходит в голову сделать из этого вывод, что никакого Леонардо да Винчи не было, что это миф, выдумка. Не приходит, потому что скажи такое, – окружающие покрутят пальцем у виска и сочтут тебя идиотом.
Но почему- то те, кто отрицают существование Бога. на том основании. что сотворенный им мир, уступает совершенству творца, – гордо именуют себя свободомыслящими.
Если даже в обыденной жизни творение никогда не тождественно творцу, то в отношении Бога- Абсолюта тем более. Если бы творение Бога было столь же совершенным, как он сам, он не был бы Абсолютом. а значит, не был бы Богом. Всё, что не является Богом, всегда будет менее совершенным, чем сам Бог.
Между творениями Бога существует градация по степени совершенства (об этом говорит Фома Аквинский в своём четвёртом аргументе): одни творения более совершенны, чем другие, но даже самое совершенное среди них несовершенно в сравнении с абсолютным совершенством Бога. Стало быть, материальный мир и все обитающие в нём существа, именно таковы, какими. и должны быть: они несовершенны. И из этого никаким образом не следует, что Бога нет.
Если земной мир несовершенен, и несовершенны обитающие в нём люди, – могут ли быть совершенными отношения между людьми? Очевидно, нет. То, что. социальные отношения несовершенны, и что люди творят бесчинства в отношении друг друга, – это правда. Так было всегда, не только во времена Мелье. Сегодня бесчинств и несправедливостей совершается не меньше чем в XVIII веке. Так будет и дальше, как это ни прискорбно.
Кто является виновником этого? Кто творит бесчинства? Кто угнетает слабых, и попирает справедливость? Разве это делает Бог? Или все- таки это делают люди? Справедливо ли обвинять Бога в том, что творим мы сами? Почему наличие среди людей жуликов, негодяев, насильников, идиотов, – означает, что Бога нет? По какой логике?
Если сеньор де Тули грабит своих крестьян невыносимыми поборами – следует ли из этого, что в этом виновен Бог, а не сеньор де Тули?
Человеку свойственно искать виновника своих неудач и неприятностей в ком угодно, только не в самом себе. Это одно из проявлений человеческого несовершенства. Можно, конечно, взвалить вину на кого-нибудь из ближних, но это чревато неприятностями: если правда вскроется, могут и привлечь за клевету. Зато на Бога можно списать что угодно: раз он меня сотворил, вот и пусть отвечает за все мои проделки. Вплоть до высшей меры социальной защиты – отказа Богу в существовании.
И вот такими рассуждениями заполнены 366 страниц творения преподобного Жана Мелье.
В этой книге он собрал все доступные ему аргументы в пользу отрицания Бога. Не то, чтобы это были его собственные открытия, отнюдь. Вопреки названию его труда «Мысли и чувства Жана Мелье» мысли там, в основном. заимствованные у других авторов (он называет их имена), а вот чувства, безусловно, его собственные. То есть «Завещание» представляет собой компиляцию атеистических аргументов, собранных по принципу «с миру по нитке», которую по аналогии с «Суммой Теологии» Фомы Аквинского можно было бы назвать «Суммой Антитеологии». Это собрание систематизированных аргументов оказалось весьма востребованным последующими поколениями атеистов. Собранные Мелье аргументы используются и сегодня, несмотря на то, что многие из них давно опровергнуты наукой и утратили актуальность.
С каждой страницы этой книги звучит обида сельского священника на церковь как таковую и церковное начальство, и эту обиду он распространяет на Бога. Читать это не у каждого хватит терпения. У Вольтера, например, не хватило. В письме Даламберу от 10 октября 1762 года Вольтер отметил, что. произведение Мелье «слишком длинно, слишком скучно и даже слишком возмутительно». А в письме Гельвецию от 1 мая 1763 года. он охарактеризовал стиль Мелье как «стиль извочичьей лошади16».
Взяв на себя смелость отредактировать это произведение, Вольтер вычеркнул из него около трехсот страниц, и в начале 1762 года издал в Женеве свою версию под названием «Extrait des sentiments de Jean Meslier, addresses a ses Paroissiens. Sur une partie des abus et des erreurs en general et en particulier» («Извлечение из обращённых к своим прихожанам чувств Жана Мелье по поводу некоторых злоупотреблений и ошибок в целом и в частности»). Имя автора на этом издании не указано, но исследователи единодушно называют его автором Вольтера.
В таком сильно сокращенном виде (шестьдесят три страницы ин октаво) Извлечение из «Завещания» имело успех и неоднократно. переиздавалось. Из Швейцарии, где он тогда жил, Вольтер рекомендовал своим парижским друзьям распространять и пропагандировать «Мелье», подразумевая под этим именно собственное «Извлечение».
Эта деятельность Вольтера, безусловно, способствовала популяризации идей и личности Жана Мелье в атмосфере надвигающейся революции, которая сделает скромного кюре из Этрепиньи одним из своих кумиров.
Решение Конвента об установке изваяния этому новоявленному святому в атеистическом Храме Разума так и не было выполнено, однако это не помешало атеистам в течение следующих двух столетий вдохновляться его идеями.
В 2007 году французский атеист Мишель Онфре в своём «Манифесте атеиста» назвал. Мелье первым человеком, написавшим целый текст в поддержку атеизма.
«Впервые… в истории идей философ посвятил целую книгу вопросу атеизма, – отмечает Онфре. – Он исповедовал это, демонстрировал, споря и цитируя, делясь своим чтением и размышлениями и ища подтверждения в собственных наблюдениях за повседневной жизнью. Название его труда говорит само за себя: «Записи мыслей и чувств. Жана Мелье», так же как и его подзаголовок: «Ясные и очевидные доказательства тщеславия и ложности всех религий мира»…Так началась история истинного атеизма» 17.
Мишель Онфре несколько увлекся, преподнося. Мелье в качестве родоначальника атеизма. Если бы Мелье был первым, откуда бы он насобирал аргументов на триста страниц своей компиляции? Очевидно, у него были предшественники, а история атеистических воззрений уходит своими корнями в гораздо более древние времена. В этой книге мы попробуем. проследить историю и истоки этой доктрины.
Глава первая. Четыре элемента
Самой откровенно – атеистической философской школой Древней Индии была локаята18, зародившаяся с появлением Брахма-сутр (примерно в середине I тысячелетия до н. э.) и просуществовавшая до XV века.
Основоположником локаяты считается полулегендарный мудрец Брихаспати, именуемый «учителем богов», который изложил в несохранившемся трактате «Локаята-сутры» основные положения учения, в основу которого был положен материалистический принцип.
Первоначально локаятиками называли мастеров ведения спора. Как и их греческие коллеги – софисты, носители учения локаята могли вступать в споры на самые разные темы и находить доказательства любым своим утверждениям, например, как тому, что мир существует, так и тому, что он не существует. С V века до нашей эры и в последующие периоды искусство ведения спора (локаята) преподавалось в брахманских школах как самостоятельная дисциплина. Есть сведения, что локаятики выступали в качестве оппонентов в дискуссиях с Буддой Шакьямуни. В священных брахманских текстах, локаята описывается как самая низменная из философий.
Достоверных сведений о философских воззрениях локаяты сохранилось немного, главным образом в трудах её астических19 и буддийских оппонентов. Например, философ-ведантист Ади Шанкара (ок. 790–820 гг.), посвятивший несколько страниц опровержению учений нерелигиозных школ («настика»), упоминает приверженцев локаяты в негативном контексте, говоря, что выступает против «невежественных людей и локаятиков…»
Исходным. положением учения локаяты было признание истинно существующим только постигаемого непосредственным восприятием материального мира, образованного спонтанным сочетанием четырех элементов: земли, воды, огня и воздуха20. Жизнь и сознание – это функции этих элементов.
Не существует иного истинного знания, кроме чувственного восприятия. Веды не являются источниками достоверного знания, поскольку не основаны на чувственном восприятии. Отсюда – отрицание авторитета Вед.
То, что не воспринимается органами чувств, – того не существует, это просто химеры, фантомы и заблуждения. Соответственно, нет ни души, ни рая, ни ада, ни закона кармы, ни духов, ни богов, ни посмертного существования. Настика («атеист») – это тот, «чья вера заключается в том, что нет никакой жизни после смерти», – поясняет «Касика- вритти» (Kacika Vrttih) – комментарий VII века к нормативной грамматике древнеиндийского лингвиста Панини (IV век до н. э. ).
«Они не верят ни в Бога, ни в нематериальные сущности и утверждают, что способность мыслить возникает в результате равновесия составляющих элементов…» – констатирует хронист и советник Акбара, императора Великих Моголов Индии Абуль Фазл (1551- 1602 гг.),
Локаятики, именовавшиеся также чарваками21. признавали наличие индивидуальной природы каждой вещи, определяющей её строение и судьбу (принцип свабхавы). Все воздействия, приходящие к вещи извне и чуждые её природе, бессильны изменить непреложный ход её существования.
Понятия добра и зла – это всего лишь иллюзии, созданные человеческим воображением. На этом основании локаятики отвергали такие привычные морально – нравственные категории, как добродетель и справедливость. Отвергали они и необходимость религии, впервые введя в оборот «конспирологический» аргумент, который затем веками станут повторять последующие поколения атеистов: поклонение богам «установлено … умными людьми, просто для того, чтобы управлять другими людьми и делать их покорными и склонными к благотворительности». В индийском эпосе «Рамаяна»22 эти слова произносит мудрец Джавали перед героем эпоса Рамой.
Поскольку единственной реальностью является земная материальная жизнь то единственное, о чем стоит заботиться – это о собственном благополучии и избегании страданий, а единственной подлинной ценностью является. чувственное наслаждение. Таков естественный вывод, вытекающий из главного догмата материализма. Действительно, если за пределами земной жизни нет ничего, то жизнь человека не может иметь иного смысла, как только успеть получить максимум удовольствий за краткий период своего существования на земле.
Сочинения приверженцев школы локаята-чарвака не сохранились. Всё, что мы знаем об их идеях, извлечено из. работ их идейно – духовных оппонентов. и критиков. Единственным письменным источником, предположительно относящимся к школе чарвака, является сильно поврежденная рукопись, найденная пандитом Шуклалджи Сангхави и преподобным Бечхердас Доши в 1926 году в джайнском монастыре в Патане. Найденная рукопись оказалась переписанным в конце XIII века списком (копией) трактата индийского философа – скептика IX века Джаяраши Бхатты под названием «Лев, опрокидывающий все принципы» (санскр. «Таттвопаплавасимха»).
С момента первой публикации манускрипта (1940 г.) среди ученых не прекращаются споры относительно принадлежности Джаяраши Бхатты к школе чарвака, поскольку в своем трактате он подверг сомнению чарвакское учение о четырех элементах и о возможности получения достоверного знания путем чувственного восприятия.
Невозможно прийти к истинному знанию стандартными средствами, принятыми в индийской эпистемологии, говорит Джаяраши, поскольку. ни один из источников знаний (восприятие, умозаключение и свидетельство) не является достаточным для установления знаний. Предвосхищая дальнейшую историю атеизма, трактат Джаяраши наглядно демонстрирует: отрицание Бога как источника Знания неизбежно приводит, к признанию принципиальной невозможности познания, то есть к агностицизму.
Стоит ли удивляться, что прожив полный цикл своего существования, перепробовав разные варианты, и убедившись, что все они заканчиваются тупиком, школа локаята растворилась в безвестности, не оставив после себя никаких следов? После XVI века не встречается ни единого упоминания об этой школе, и сегодня ни одна из существующих в Индии философских школ или сект не претендует на происхождение из школы локаята.
История древнеиндийской школы локаята-чарвака служит убедительным подтверждением того, что происхождение и сущность атеизма невозможно рассматривать в отрыве от материалистического учения. Атеизм – следствие материализма и его частный случай. Главным постулатом материализма. является утверждение о том, что существует только материя, что кроме материи ничего нет – ничего нематериального или сверхъестественного. Исходя из этого, Бога, как существа сверхъестественного, тоже быть не может. Это, собственно, и составляет «теоретическую базу» атеизма.
Глава вторая. Смеющийся философ
Ранние греческие философы – софисты не были атеистами в нынешнем смысле. Они были, скорее, материалистами. Отрицая традиционные религиозные представления, – конечно, наивные, доставшиеся от прежних поколений, – древнегреческие софисты пытались объяснить все явления и само происхождение мира действием естественных природных сил, а не мифологическими представлениями. Например, они говорили, что молния – это не стрелы, которые выпускает Зевс- громовержец, а результат столкновения облаков под действием ветра, а землетрясения вызывают «изменения земли под воздействием нагревания и охлаждения». А если всё можно объяснить естественными причинами, значит, для объяснения мира нет необходимости в богах. Утверждение атеизма («Бога нет») является следствием главного догмата материализма («Существует только материя»). Атеизм – порождение материалистического мировоззрения.
Самым упоминаемым атеистом Древнего мира является Демокрит из города Абдеры во Фракии. Насмешливые афиняне называли Абдеры «городом невежд и простаков». Родители будущего атеиста были людьми обеспеченными, владели землями, рабами и стадами крупного и мелкого скота, что обеспечивало им. высокий социальный статус. В те времена было принято считать: кто хорошо управляет собственным имуществом, тому можно и управление городом доверить. Богатство и власть всегда идут рука об руку. Стремление родителей. к власти проявилось в имени, которое они дали сыну: Демокрит – значит «избранный народом», от древнегреческих слов «demos» («народ») и «kritos» («избранный»). Помимо Демокрита у них было ещё двое сыновей – Дамос и Геродот.