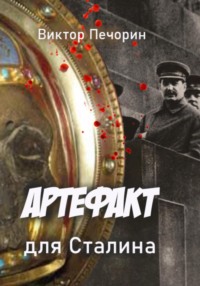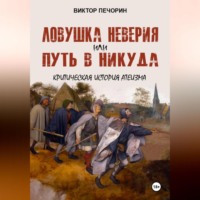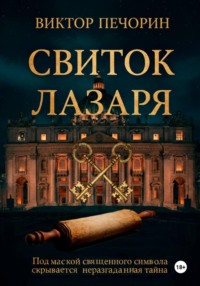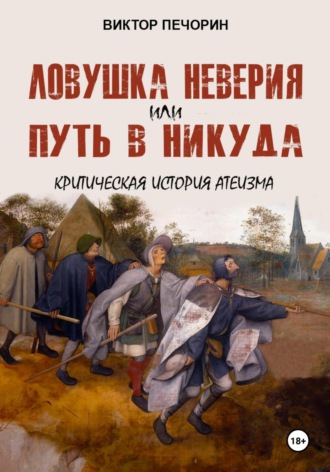
Полная версия
Ловушка неверия или Путь в никуда. Критическая история атеизма

Виктор Печорин
Ловушка неверия или Путь в никуда. Критическая история атеизма
ПРОЛОГ
В субботний день 11 июня 1729 года преподобный Гийотен сочинял в своем кабинете проповедь к воскресной службе, когда раздался нетерпеливый стук в дверь. Отложив с некоторой досадой «Sermones Dominicales»1 святого Антония Падуанского, отец Гийотен спустился по скрипучей лестнице и, отворив дверь, вопросительно взглянул на нежданного посетителя, вытиравшего платком пот со лба.
– Чем могу служить? – сухо спросил священник.
– Здравствуйте, месьё! Я нотариус округа Сент-Мену, – отрекомендовался незнакомец. – Могу я видеть нового кюре?
– Я и есть новый кюре, – ответил Гийотен, – а в чем, собственно дело?
– Дело весьма щекотливого свойства, – сказал нотариус, прижимая к животу объемистый портфель из свиной кожи, – касательно вашего предшественника. Думаю, лучше поговорить внутри.
– Да, да, прошу вас, – кюре посторонился, пропуская посетителя. – Сюда, пожалуйста. Располагайтесь. Предложить вам холодного лимонада?
– Не откажусь. Такая жара…
– Видимо, что- то важное, раз вы проделали такой путь?
– Важное? Скорее необычное. Нужен ваш совет, падре. Как духовного лица.
– Все, что в моих силах. Слушаю вас.
– Видите ли… Я прибыл сюда в качестве душеприказчика недавно скончавшегося преподобного Жана Мелье, вашего предшественника2. По закону моя обязанность как нотариуса – огласить оставленное им завещание и проследить, чтобы оно было исполнено в точности.
– Если такова ваша обязанность, вы должны её выполнить. Что вас смущает? Какой совет вы хотели бы получить? Думаю, тут двух мнений быть не может: последняя воля покойного должна быть, безусловно, исполнена.
– Вы говорите «безусловно»… То есть при любых обстоятельствах? Даже если его требование, скажем так…. не совсем обычного свойства?
– Что вы имеете в виду?
– Ну, например то, что наследниками по завещанию являются все здешние прихожане.
– Все?
– Да. Все жители Этрепиньи. Теперь это ваши прихожане.
– И… что же они должны унаследовать? Он что, был богат, отец Жан?
– Извините, падре, я в несколько затруднительном положении. С одной стороны, до официального оглашения завещания я не имею права раскрывать детали. Но с другой стороны… В общем, согласно воле покойного, текст завещания должен быть оглашен публично в присутствии всех прихожан в церкви Этрепиньи. Что, конечно, требует вашего согласия. Собственно за этим я к вам и явился.
– Ну, если такова воля покойного, – развел руками Гийотен. – Как я уже сказал, следует уважать его пожелания. Когда вы хотите огласить этот документ?
– Завтра, с вашего позволения. Скажем, после воскресной мессы, когда все соберутся в церкви.
– Завтра? Это так срочно? Завтра моя первая служба в этом приходе. Первое впечатление самое важное, знаете ли… Может быть, отложить до следующей недели?
– Увы, это невозможно. Установленный законом срок оглашения завещания истекает в ближайший вторник.
– Ну что ж…– задумался кюре, – может, оно и к лучшему… Попрошу прихожан задержаться после мессы, и вы сможете выполнить свою обязанность. А теперь я должен поработать над завтрашней проповедью, если не возражаете…
Изобразив на лице самую любезную улыбку, на которую был способен, молодой священник уставился на посетителя, ожидая, что тот поднимется и уйдет. Однако нотариус, похоже, не считал разговор законченным. В комнате повисла неловкая пауза, сопровождаемая тиканьем часов.
– Вас что- то ещё беспокоит? – спросил, наконец, Гийотен.
– Да, падре, – замялся нотариус. – Вы сказали, что воля покойного должна быть неукоснительно соблюдена…
– Конечно, сударь. Раз он пожелал, чтобы его завещание было оглашено перед всеми прихожанами, – завтра мы так и сделаем.
– То есть вы не станете возражать, чтобы текст завещания был публично оглашен в церкви?
– Мы ведь уже договорились, – в голосе священника проскользнуло раздражение. – После мессы вам будет предоставлена такая возможность…
– Невзирая на содержание этого документа?
Кюре устремил на собеседника непонимающий взгляд.
– Речь ведь идет о завещании? – спросил он, наконец.
– Документ озаглавлен как завещание… – утвердительно кивнул нотариус, – однако… Однако это завещание не совсем обычного свойства. Во всяком случае, прежде я с таким ещё не сталкивался. А уж я на своём веку повидал всякого, можете мне поверить…
– Охотно верю, сударь, но не понимаю, чем я могу вам помочь? Я не настолько разбираюсь в юридических тонкостях…
– Нет, нет, падре. Я бы только хотел услышать ваше мнение, можно ли зачитывать такой документ в церкви в присутствии множества свидетелей. Не будет ли это сочтено святотатством или богохульством.
– Святотатством? – священник удивленно взглянул на докучливого посетителя, явно находившегося в затруднении и утиравшего пот платком.
– Не знаю, слышали ли вы о случае с отцом Фавасом? – наконец, выдавил из себя нотариус.
– Признаться, нет, не слышал. А что с ним случилось?
– Он был сельским священником, как и вы. Тут, неподалёку, в соседней епархии. Не поладил со своими прихожанами, и они на него донесли. Ну, сущую чепуху. Будто бы он, чтобы подновить росписи, смешивал краски на алтаре и оставил следы на мраморе. Будто собственноручно изготавливал гостии3 для причастия, а ещё как- то, по пьяному делу, похвалялся, что как священник. имеет привилегию поворачиваться к Богу задом при совершении мессы.
– И правда, ерунда какая- то. Надеюсь, этот донос не был принят всерьез?
– Увы, святой отец. Отца Фаваса приговорил к публичному покаянию, протыканию языка каленым железом и восьми годам ссылки за пределы королевства.
– Но почему?
– Суд усмотрел в действиях священника богохульство. Правда, наш добрый король, упокой Господи его душу, помиловал бедолагу. Но не всем так везёт.
– Жуткая история. Но к чему вы это?
– А вот к чему. Как бы нам с вами, святой отец, не пришлось попробовать на вкус каленого железа.
– Но почему?
– По сравнению с тем, что написано в завещании вашего предшественника, – нотариус похлопал ладонью по своему пухлому портфелю, – и что я обязан завтра публично огласить, – с вашего, между прочим, святой отец, разрешения, – проделки отца Фаваса выглядят детскими шалостями.
– Там что, содержатся какие- то еретические высказывания? Ставятся под сомнение догматы христианской религии и святые таинства?
– Вот это я и хотел бы, чтобы вы мне сказали. Это все- таки по вашей части.
Отец Гийотен ошарашенно уставился на незнакомца, чувствуя, как холодок страха взбирается по позвоночнику.
– Для того чтобы дать такое заключение, – вымолвил он, наконец, – я должен ознакомиться с этим… документом. Но, как я понимаю, до официального оглашения это невозможно, – вы же сами сказали.
– Именно так, ваше преподобие. Закон и обычай запрещают раскрывать содержание завещания, кроме как по приказу короля или судебному решению.
– Да уж, дилемма…
– Что, простите?
– Безвыходное, говорю, положение…
– Но на то и существуют юристы, чтобы уметь обходить законы.
– Вот как? И как же это сделать?
– К примеру, я мог бы показать вам документ, если бы наш с вами разговор имел форму исповеди. Нарушение закона может быть зафиксировано, только если об этом станет кому- то известно. Но то, что сказано на исповеди, не подлежит разглашению, не так ли?
– Безусловно, – оживился кюре. – Ну что ж, если вы желаете исповедаться, я не вправе. отказать.
– Благодарю, отче. Просто камень с души, – просиял нотариус и, достав из портфеля объемистую рукопись, протянул её священнику, который стал зачитывать заголовок рукописи вслух:.
– «Записи мыслей и мнений Ж. М…
– Жан Мелье, – пояснил нотариус.
– Жана Мелье, священника, кюре из Этрепиньи и Бл… Это что?
– Деревня Балев. Отцу Мелье было поручено обслуживать оба прихода – в Этрепиньи и в Балев.
Гийотен кивнул и продолжил:
– «о некоторых ошибках и заблуждениях в поведении людей и управлении ими. В Записях приводятся ясные и очевидные доказательства суетности и ложности… всех божеств и религий мира». Что- что?
Нотариус развел руками, поймав на себе удивленный взгляд отца Гийотена, который продолжил: «После смерти автора эти Записи должны быть переданы его прихожанам, чтобы служить им и им подобным. свидетельством истины». И ниже еще приписка: «Для свидетельства перед ними и язычниками» 4. Это из евангелия от Матфея, – пояснил кюре. – Возможно, отец Мелье имел в виду ложность и суетность именно языческих религий?
Нотариус отрицательно мотнул головой.
– Увы. Полистайте дальше. Я там специально закладочки сделал.
Разложив рукопись на обеденном столе, отец Гийотен стал её перелистывать, время от времени бросая растерянные взгляды на собеседника, а иногда хватаясь за голову.
И было от чего.
«… Недостоверность Ветхого завета… Недостоверность Евангелий… Поклонение Богу из теста в таинстве причащения… О ложности христианской религии, вытекающей из заблуждений её учения и морали…».
– Да это же… – отшатнувшись от рукописи, произнес, наконец, кюре, – Я даже слов не нахожу… Это самое жуткое кощунство из всех, что мне когда- либо доводилось слышать… Этот Мелье – настоящее чудовище. То, что он тут понаписал, – просто уму непостижимо! Как мог такой человек исполнять обязанности священника, служить мессы, совершать таинства, принимать исповеди, отпускать грехи именем Бога, которого он отрицал?!
– Это вы ещё не дошли до того места, где он пишет про Господа нашего Иисуса Христа! – добавил нотариус.
– Нет, нет, даже не хочу этого слышать!
– Теперь вы понимаете, падре, в каком я нахожусь затруднении, и почему мне понадобился ваш совет?
– Вы правильно сделали, сударь, что предупредили.
– Так вы, отче, по- прежнему уверены, что из уважения к последней воле покойного следует огласить вот это всё в церкви после воскресной мессы?
– Ни в коем случае! Пока я жив, ни за что не позволю осквернять храм Божий подобной мерзостью. Думаю, эту гнусную писанину нужно. немедленно уничтожить.
– Уничтожить завещание? Кто же после этого станет обращаться к нотариусу, у которого завещания пропадают, а тем более намеренно уничтожаются?
– Но нельзя же допустить, чтобы этот документ попал в некомпетентные руки и сделался источником новой ереси. Тем более – дать такой козырь янсенистам.
– Об этом не мне судить, отче. По закону я обязан огласить завещание не позднее ближайшего вторника. Это крайний срок.
– Так что же нам делать? – растерянно произнес кюре, машинально выводя на листе бумаги: «ОГЛАСИТЬ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ». Взглянув на листок с надписью, он ткнул в него пальцем:
– Все зависит от того, где поставить запятую.
– Простите, святой отец, – промолвил нотариус, вновь отирая пот со лба. – Не найдется ли у вас чего-нибудь выпить?
– Кажется, где- то был кагор. Подойдет?
– Давайте, – обреченно пробормотал нотариус.
Они выпили. В комнате вновь повисла тишина, прерываемая только жужжанием мухи.
– Постойте- ка! – внезапно осенило священника. – А нельзя ли найти повода, хотя бы чисто формального, для того, чтобы… ну, скажем… не признать эти записки завещанием? Если это не завещание…
– Тогда, я не обязан был бы его оглашать… – подхватил нотариус. – Святой отец, вы гений! Посмотрим, посмотрим, – приговаривал он, вертя в руках титульный лист документа. – Обычно- то мы не сильно придираемся. Если документ составлен завещателем собственноручно или заверен свидетелями или нотариусом, на мелкие формальности никто внимания не обращает. Но тут случай особый. Поэтому… Ну что ж, дайте подумать…
Французская юриспруденция, – размышлял он вслух, – признает три вида завещаний: testament olographe или собственноручное, testament authentique или нотариально засвидетельствованное, и testament mystique – тайное. Последние два вида завещаний должны быть заверены нотариально в присутствии свидетелей. Разница только в том, что тайное находится в запечатанном конверте. Завещание преподобного Мелье как раз было в конверте. Однако оно не имело нотариального заверения. Стало быть, его нельзя признать. ни тайным, ни аутентичным. Так?
– Похоже на то, – согласился кюре.
– Тогда остается только один вариант – собственноручное завещание. Это самый простой вариант, но и самый уязвимый. Если такое завещание по какой- то причине будет утеряно или уничтожено, – нет возможности доказать, что оно вообще существовало, – ведь нет ни нотариальной записи, ни свидетелей, которые могли бы подтвердить его наличие.
Собственноручное завещание должно быть полностью написано, датировано и подписано самим наследодателем. Таково требование закона. А что мы имеем в данном случае? Завещание написано, очевидно, почерком преподобного Мелье и под ним стоит его подпись. Но вот дата на документе, извольте видеть, отсутствует.
– И впрямь! А где должна быть дата?
– Она может быть на первой странице, или в конце, где подпись. Но главное, она должна быть. А тут её нет!
– И это является поводом, чтобы не признать этот документ завещанием?
– Как я уже сказал, обычно это препятствием не является. Но формально – да. Требование к форме завещания не выполнено.
– Хорошо. Что-нибудь ещё? – спросил кюре, подливая нотариусу кагора.
– Да! – воскликнул тот, почувствовав азарт охотника. – Завещание не должно содержать невозможных или противозаконных условий, а также условий, противоречащих добрым нравам. Добрым нравам, заметьте! Разве содержащиеся в этом документе утверждения о ложности христианской религии и о том, что Бог есть человеческая выдумка, не противоречат добрым нравам? Не говоря уже о тех гадостях, которые преподобный написал про Христа?
Кроме того, закон требует, чтобы завещатель был дееспособным и в здравом рассудке. Наличие пороков воли закон считает основанием для признания завещания недействительным. Между тем, хотя этот факт решено было не придавать огласке, имеются обоснованные подозрения и даже показания свидетелей, что отец Мелье покинул этот мир не вполне естественным образом.
– Вот как?
– Да! Он намеренно перестал принимать пищу, тем самым совершив грех самоубийства. Вряд ли такой поступок свидетельствует о душевном здоровье. Скорее его можно расценить как порок воли!
– Браво, мэтр! – воскликнул священник. – Итак, мы имеем не одну, а целых три причины не признавать эти записки завещанием! А значит…
– А значит, – подхватил раскрасневшийся от гордости и кагора. нотариус, – запятую мы поставим здесь!
И, макнув перо в чернильницу, вывел жирную запятую, больше похожую на кляксу, после слова «нельзя»: «ОГЛАСИТЬ НЕЛЬЗЯ, УНИЧТОЖИТЬ».
К такому же выводу пришел архиепископ Реймсский, монсеньор Арман де Роган-Гемене5, в канцелярию которого также поступил экземпляр Завещания с тем же требованием – огласить его перед прихожанами.
Архиепископа более всего поразило признание покойного священника, что тот много лет исполнял пастырские обязанности в двух вверенных ему приходах, не только не имея при этом веры в Бога, но, наоборот, пребывая в твердой уверенности, что Бога нет.
– Это же, как минимум, два поколения взращено на ядовитых побегах неверия и нигилизма, – сокрушался архиепископ, размешивая кочергой догорающие листочки с записями священника- перевертыша. – Какие же представления сформировались в сознании жителей Этрепиньи и Балэв под тлетворным влиянием лжепастыря?
– И ведь как ловко маскировался, мерзавец! – негодовал архиепископ. – Оба мои предшественника, и монсеньор ле Телье и кардинал де Майи, которые знали его много лет и неоднократно посещали его приходы, ничего подозрительного не усмотрели! В отчетах о епархиальных ревизиях отмечено только сожительство отца Мелье с молодой девицей, которую он выдавал за свою кузину, да небрежное содержание храмовых зданий. Но такие замечания к какому сельскому кюре не предъяви, буквально через одного – не ошибешься. Слабость плоти естественна, а потому извинительна. Но кощунственное отрицание божественного величия… Это дело другое. Этому нет оправдания!
Оба экземпляра завещания отца Мелье были уничтожены. Так бы мы и не узнали, что за крамольные мысли содержались в посмертных записках сельского священника, если бы он предусмотрительно не сделал ещё одну, третью копию Завещания, и не передал её своему приятелю адвокату Леру, известному своими либеральными взглядами.
Леру рукопись сохранил. Он даже пытался ее опубликовать, но не нашёл ни одного издателя, который бы за это взялся.
В течение ста тридцати пять лет текст «Завещания» ходил по рукам в рукописных копиях6, как правило – в виде кратких конспектов, сделавшись чем- то вроде «священного писания» для атеистов, которые самого Жана Мелье стали воспринимать как пророка новой веры.
Осенью I793 года (начало II года по новому революционному календарю7) философ – революционер Жан- Батист Клоотс, объявивший себя «личным врагом Бога», предложил установить скульптурное изображение. новоявленного пророка в храме культа Разума, которым революционеры заменили отмененную ими христианскую религию. Под храм Разума (фр. Temple de la Raison) они приспособили собор Нотр–Дам-де-Пари на острове Ситэ, в самом центре Парижа.
Дорвавшейся до власти буржуазии пришлись по сердцу не столько убеждения священника – ренегата, сколько следующие из них практические выводы. Отвергший учение Христа и заповеди Бога кюре в своих предсмертных записках призывал, ни много ни мало, к физическому истреблению аристократов и духовенства. Цитируя популярное среди революционеров двустишие, призывающее к тому, «чтобы все великие люди в мире и вся знать были повешены и задушены кишками священников»8, Мелье пишет, что хотя этот призыв может показаться грубым и шокирующим, однако, по его мнению, это именно то, чего заслуживают священники и знать. Этим людоедским рассуждением Мелье фактически благословил развязывание кровавой вакханалии революционного террора9, унесшего жизни более двухсот тысяч человек, что составляло около 1% тогдашнего населения Франции10. У главарей буржуазной революции были все основания установить в своем «храме Разума» монумент в честь священника – ренегата по соседству с памятником врачу- палачу доктору Гильотену, осчастливившему мир своим устройством для быстрого отрубания голов.
Предложение Клоотса было одобрено большинством голосов, и Декретом от 17 декабря 1793 года Национальный конвент, высший законодательный орган Республики, постановил. воздвигнуть статую «Жану Мелье, кюре из Этрепиньи в Шампани, первому священнику, который имел мужество чистосердечно отречься от религиозных убеждений».
Правда, у революционеров что- то пошло не так: они сами попали под лезвие гильотины, а покойный кюре так и не дождался своего изваяния.
Что заставило пожилого священника разувериться в том, чему он посвятил всю свою сознательную жизнь? Что заставило его возненавидеть Церковь и отвергнуть Бога? По какой причине он стал атеистом?
Жана Мелье обычно называют философом. Однако к отрицанию Бога и религии он пришел не при помощи философских размышлений или логических построений, а, так сказать, эмпирическим путём, столкнувшись однажды с суровой действительностью окружающей жизни.
На фоне бурных событий эпохи Людовика XIV жизнь Жана Мелье протекала сравнительно благополучно. Хотя он принадлежал к крестьянской ветви фамилии Мелье. его отцу, Жерару Мелье, удалось изменить свой социальный статус: в документах 1678 года он именуется уже не селянином, а торговцем. Сыну же Жерар прочил духовную карьеру, тем более что представители другой ветви семьи Мелье достигли довольно высоких должностей в церковной иерархии. Один из Мелье стал каноником Реймского собора, в котором, по древнему обычаю, происходили коронации французских королей.
В эпоху жёстких сословных различий Церковь представляла собой едва ли не единственный «социальный лифт», позволявший подняться из низов общества на самый верх, – из третьего сословия, к которому принадлежали крестьяне, ремесленники и торговцы, – в духовенство, сословие номер один тогдашнего французского общества. Жерар Мелье решил воспользоваться этим способом, чтобы его семья, хотя бы через сына. совершила. рывок по социальной лестнице. Это, конечно, требовало немалых затрат, но оно того стоило.
Воспользовавшись родственными связями, отец пристроил. Жана в Реймсскую духовную семинарию, а в 1678 году переписал на него свой дом в деревне Мазерни с прилегающими владениями, – это требовалось для того, чтобы. обеспечить сыну минимальный имущественный ценз для вступления в духовный сан. К тому же отцу теперь не нужно было уплачивать налог на имущество, а духовенство было от налогов освобождено.
В семинарии и по её окончании Жан Мелье находился под опекой каноника Реймского собора Жака Каллу, который получил эту должность по рекомендации предыдущего каноника из семейства Мелье (его тоже звали Жан Мелье).
Через год после окончания семинарии Жан был рукоположен в духовный сан, в 1689 году получил место священника в деревне Этрепиньи, которая находилась в двух с половиной льё11 от дома его родителей, так что он мог регулярно их посещать и принимать их у себя, в доме при церкви.
Впоследствии в своем «Завещании» Мелье напишет, что никогда не верил в Бога, а священником стал исключительно, чтобы не огорчать родителей, однако не исключено, что он спроецировал в своё прошлое мысли и чувства, испытываемые им в последний период жизни, когда писалось «Завещание».
Жизнь. приходского священника существенно отличалась от жизни крестьянина. Привилегии духовного сословия охранялись государством. Королевский ордонанс 1695 года обязывал прихожан предоставить своему кюре достойное жилище, в котором должны быть две отапливаемые комнаты, – столовая и спальня, – а также кабинет, кухня и хлебный амбар. При доме должны быть колодец, отхожее место, кладовка и погреб, а если приход протяженный, – еще и конюшня на одну или две лошади.
Помимо жилища священнику причиталась доля от регулярно взымаемой с крестьян церковной десятины, а также плата за совершение обрядов бракосочетания, крещения, соборования и заупокойных служб. Инвестиции Жерара Мелье в будущее его сына не были напрасными.
Есть у. священнического статуса и свой минус – обет целибата, то есть невозможность иметь жену, детей и жить нормальной семейной жизнью, как все прихожане. Впрочем, те священники, которых тяготил этот запрет, научились его обходить, поселяя у себя неофициальных жён под видом родственниц или прислуги. Церковное начальство, снисходя к слабостям человеческим, обычно закрывало на это глаза, если подчиненные соблюдали видимость благопристойности.
Архиепископ ле Телье, церковный начальник Жана, к отмеченному в отчете епархиальной ревизии от 1696 года факту, что в доме кюре проживает под видом кузины девица двадцати трех лет, не придал этому значения. Архиепископ вообще относился к молодому священнику по- отечески благосклонно, ставя его в пример другим своим подчиненным.
Жизнь Жана Мелье протекала ровно и благополучно. Жители деревни относились к нему с уважением, у церковного начальства он был на хорошем счету, да и радостей семейной жизни отец Жан не был лишен. Многие менее удачливые сограждане могли бы позавидовать такой спокойной и обеспеченной жизни.
Единственным потрясением в ровном и благополучном его бытии стал разразившийся в 1716 году конфликт с местным феодалом сеньором де Тули.
Этот господин получил титул сеньора де Тули в качестве приданого, женившись на дочери барона Антуана де Клери де Тули, владельца Этрепиньи и нескольких соседних деревень.
Когда старый барон покинул юдоль земную, его зять, тоже Антуан, стал полноправным сеньором этих земель, а стало быть, и хозяином живших в его владениях крестьян, которые всё ещё находились в крепостной зависимости.
Система налогообложения, барщины и прочих поборов с крестьян, складывавшаяся веками, была сложна и запутана. Крестьяне были должны всем – и королю, и местным властям, и церкви, и военным, если тем заблагорассудится остановиться в их деревне на постой, а более всего – сеньору. В общей сложности у них изымалось. до семидесяти процентов произведённого продукта. Эта система регулировалась отчасти законами, отчасти королевскими указами и привилегиями, отчасти обычаем. Повинности, причитавшееся согласно обычаю, крестьяне кряхтели, но исполняли: если так делали предки, то и мы должны. Но когда с них требовали сверх того, к чему они привыкли, – таким. нововведениям они противились.
В 1716 году, воспользовавшись сменой власти (Людовик XIV, царствование которого продолжалось 72 года, умер, передав трон малолетнему правнуку, а фактическую власть – регенту, герцогу Филиппу Орлеанскому) новоиспеченный сеньор Антуан де Тули, человек невеликого ума, но великой алчности, решил обложить крестьян дополнительными поборами, что, вызвало ожидаемое сопротивление. Отец Мелье в этом конфликте встал на сторону крестьян и с церковной кафедры обличил жадность помещика и незаконность его требований.