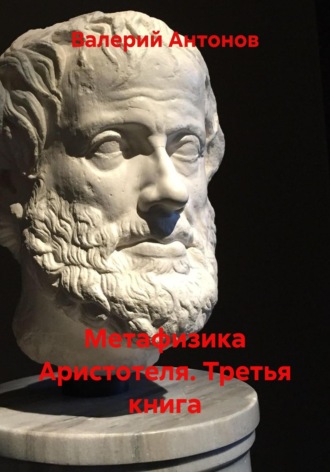
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Третья книга
· Фома Аквинский, «Комментарий к “Метафизике” Аристотеля», §397: Фома развивает мысль Аристотеля, указывая, что науки, основанные на абстракции, имеют дело с необходимостью, а необходимость не может происходить из случайного и изменчивого чувственного мира. Поэтому объект науки должен быть отличен от материального субстрата.
Даже астрономия, вероятно, не является наукой о чувственно воспринимаемых величинах, и она не имеет никакого отношения к этому небу [33]. Ибо линии, воспринимаемые чувствами, не того рода, о которых говорит геометр: ничто, воспринимаемое чувствами, не является точно прямым или круглым [34], и круг, воспринимаемый чувствами, не просто касается прямой в одной точке [35], но таков, как говорит Протагор в своем опровержении геометров [36]: ни движения и кривые небес не похожи на те, о которых говорит астрономия [37], ни созвездия не имеют той же природы, что и звезды [38].Текст Аристотеля (998a7-998a19): Швеглер видит в этом отрывке развитие и усиление предыдущего аргумента. Если с геометрией ситуация была относительно ясна (ее объекты можно начертить условно), то астрономия, казалось бы, напрямую изучает видимое небо. Однако Аристотель проводит радикальное разделение: чувственно воспринимаемое небо со всеми его imperfections (несовершенствами) и идеальные, математические объекты астрономии как теоретической науки. Швеглер подчеркивает, что для Аристотеля астрономия – это раздел математики, применяемый к физической реальности, но ее предмет – не сами физические тела, а их абстрактные геометрические модели и идеализированные траектории. Упоминание Протагора служит Аристотелю для иллюстрации скептического вывода из смешения этих двух планов.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев анализирует этот пассаж как ключевой для понимания аристотелевской теории абстракции. Аристотель не отрицает существование чувственного неба, но отрицает его пригодность быть непосредственным объектом точной науки (ἐπιστήμη). Чувственный мир для него – это мир непрерывного становления, смешения форм, «искажения» идеальных контуров. Наука же, будь то геометрия или астрономия, имеет дело с «очищенными» от материи сущностями, с чистыми формами. Лосев указывает, что здесь Аристотель, по сути, дает ответ софистическому релятивизму Протагора: да, чувственный мир относителен и неточен, но это не отменяет существования абсолютного и точного знания, которое существует в сфере логического и математического.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай акцентирует внимание на конкретных примерах Аристотеля. Утверждение, что чувственный круг не касается линейки в одной точке, – это brilliant empirical observation (блестящее эмпирическое наблюдение), подрывающее претензии строгого знания на основе только чувств. На микроуровне всегда есть деформация, шероховатость, площадь контакта. Ссылка на Протагора [36] показывает, что Аристотель осознает силу скептических аргументов и принимает их в отношении мира явлений, чтобы оградить от них мир сущностей. Что касается астрономии [37, 38], то Бугай поясняет, что астрономия изучает не реальные, сложные движения светил, испытывающие возмущения, а идеальные круговые движения, приписываемые им в теоретической модели.Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἀστρολογία περὶ αἰσθητὰ μεγέθῃ ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν τοῦτον. Οὔτε γὰρ αἱ αἰσθηταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν οἵας λέγει ὁ γεωμέτρης (οὐθὲν γὰρ εὐθὺ αἰσθητὸν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον· ἀπτᾶται γὰρ τῆς κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος αἰσθητός, ἀλλ’ ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν ἔλenchon τοὺς γεωμέτρας), οὔθ’ αἱ κινήσεις καὶ sphairopoiiὰι αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦταί εἰσιν οἵας ὁ ἀστρολόγος λέγει, οὔτε τὰ σημεῖα τῆς αὐτῆς ἔχει φύσεως τοῖς ἄστροις.Древнегреческий оригинал текста: Разъяснения по ссылкам:
[33] «οὐδὲ περὶ τὸν οὐρανὸν τοῦτον» («и она не имеет никакого отношения к этому небу»):
· Аристотель, «О небе», I.3, 270b1-5: Аристотель прямо заявляет, что астрономия является самой физической из математических наук, поскольку она изучает физическую сущность – небо и светила, – но изучает их не как физик (который исслеледует материальную причину), а как математик, рассматривая лишь их математические свойства (форму и движение). Это подтверждает тезис о том, что ее объект – абстракция.
· Симпликий, «Комментарий к “О небу” Аристотеля»: Симпликий подробно разбирает этот статус астрономии, отмечая, что она занимает промежуточное положение между физикой и математикой, но ее доказательства заимствуются из математики (CAG Vol. VII, p. 20.10–25 Heiberg).
[34] «οὐθὲν γὰρ εὐθὺ αἰσθητὸν οὕτως οὐδὲ στρογγύλον» («ничто, воспринимаемое чувствами, не является точно прямым или круглым»):
· Этот аргумент является краеугольным камнем аристотелевской теории абстракции. Он повторяется в других трудах, например, в «Физике», II.2, 193b31-35: «Геометр исследует линию, но не поскольку она есть линия чувственно воспринимаемого тела… он отделяет их [свойства] от движения, и это ничуть не ведет к ошибке, а также не означает, что они существуют отдельно».
[35] «ἀπτᾶται γὰρ τῆς κανόνος οὐ κατὰ στιγμὴν ὁ κύκλος αἰσθητός» («круг, воспринимаемый чувствами, не просто касается прямой в одной точке»):
· Это классический пример, иллюстрирующий разрыв между идеальным математическим объектом и его материальным воплощением. Любой нарисованный круг при рассмотрении под увеличением будет иметь неровный край, а контакт с линейкой будет происходить по небольшой площади, а не в идеальной точке.
[36] «ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν ἔλenchon τοὺς γεωμέτρας» («но таков, как говорит Протагор в своем опровержении геометров»):
· Точное содержание аргумента Протагора не сохранилось. Диоген Лаэртский (IX, 53) упоминает, что Протагор спорил с геометрами. Предположительно, его аргумент был скептическим: поскольку идеальные фигуры невозможно продемонстрировать в чувственном мире, геометрическое знание не имеет основания в опыте и потому условно или ложно. Аристотель использует этот аргумент, чтобы показать обратное: основание геометрии – не в опыте, а в разуме.
[37] «οὔθ’ αἱ κινήσεις καὶ sphairopoiiὰι αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦταί εἰσιν» («ни движения и кривые небес не похожи на те, о которых говорит астрономия»):
· Аристотель в «Метафизике», XII.8, 1073b1-10 описывает сложную модель неба с множеством сфер, необходимых для объяснения наблюдаемых неравномерностей в движениях планет. Это доказывает, что его собственная астрономическая теория не была простым описанием наблюдений, а была идеализированной математической конструкцией, стремящейся «спасти явления» (σῴζειν τὰ φαινόμενα).
[38] «οὔτε τὰ σημεῖα τῆς αὐτῆς ἔχει φύσεως τοῖς ἄστροις» («ни созвездия не имеют той же природы, что и звезды»):
· «Созвездия» (τὰ σημεῖα) здесь, скорее всего, означают не группы звезд, а точки на небесной сфере (например, точки равноденствий или солнцестояний), которые являются математическими markers (маркерами) в астрономических расчетах. Аристотель подчеркивает, что эти абстрактные точки, введенные астрономом для построения теории, не являются физическими объектами, как сами звезды.
Некоторые сейчас считают, что эта так называемая [39] середина (τὸ μεταξύ) действительно существует между идеями и чувственными вещами, но не вне чувственных вещей, а внутри них. Чтобы перечислить все невозможности, к которым приводит это предположение, потребовалось бы более обширное обсуждение, но достаточно рассмотреть следующее. Маловероятно, чтобы так было только с серединой, как указано [40], но тогда, очевидно, было бы возможно, чтобы идеи находились в чувственных вещах, поскольку одно и то же относится к обоим. Кроме того, [41] два твердых тела должны были бы находиться в одном и том же месте, а середина не могла бы быть неподвижной, если бы она обитала в чувственной вещи, находящейся в движении. В общем, почему нужно считать середину существующей [42], но существующей в сенсорных вещах? Те же трудности, о которых говорилось выше, применимы и здесь. Ведь рядом с небом должно было бы существовать небо, только не вне его, а в одном и том же месте, что еще более невозможно [43].Текст Аристотеля (998a7-998a19 (продолжение)): Швеглер идентифицирует здесь критику Аристотелем теории, которую он приписывает, в частности, Евдоксу Книдскому и, возможно, некоторым пифагорейцам. Эта теория пыталась смягчить радикальный дуализм Платона, поместив математические объекты (числа, геометрические сущности) не в отдельный мир, а внутрь чувственных вещей в качестве их структурирующего начала. Швеглер подчеркивает, что Аристотель атакует эту концепцию с позиций своей физики и онтологии. Его главный аргумент – это нарушение фундаментальных физических принципов: два тела не могут занимать одно место (нарушение impenetrability), а вечное и неизменное (математическая сущность) не может находиться внутри движущегося и изменчивого, не заражаясь его природой. Для Аристотеля это попытка спасти теорию идей лишь умножает сущности и проблемы.Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847–1848): Лосев анализирует этот отрывок как crucial moment (ключевой момент) в формировании собственной аристотелевской доктрины о соотношении общего и частного, формы и материи. Критикуя теорию «середины», Аристотель отвергает вещное понимание идеального. Идеальное (форма, эйдос, математическое соотношение) не является отдельной вещью (χωριστόν), которую можно «поместить» куда-либо – ни рядом, ни внутрь. Оно является имманентным логосом, принципом организации материи. Поэтому, по Лосеву, Аристотель не просто отрицает, но готовит почву для своего положительного решения: общее существует в вещах не физически, а как их сущностная форма, постигаемая умом через абстракцию.Комментарий Алексея Фёдоровича Лосева: Бугай обращает внимание на логическую структуру аргументации Аристотеля. Он применяет reductio ad absurdum (сведение к абсурду) к теории «внутренней середины». Если допустить, что математические объекты существуют внутри чувственных вещей как особые сущности, то:Комментарий Дмитрия Владимировича Бугая: 1. Это произвольное ограничение: почему тогда не допустить, что и сами идеи находятся внутри вещей? [40]
2. Это приводит к физическим абсурдам: нарушаются законы места и движения [41].
Бугай отмечает, что Аристотель показывает: проблема не в месте нахождения идеального, а в самом понимании его как отдельной сущности, существующей наравне с материальной.3. Это не решает исходную проблему, а лишь переносит ее внутрь вещи, создавая «небо в небе» [43], то есть бесконечную регрессию. Ἔνιοι δέ φασιν εἶναι τὰ μεταξὺ ταῦτα, χωρὶς μὲν τῶν εἰδῶν χωρὶς δὲ τῶν αἰσθητῶν, οὐκέτι δὲ ἔξω, ἀλλ’ ἐν τούτοις. Ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατα συμβαίνει πλείοσι λόγοις ἂν δεήσειε διελθεῖν, ἀλλ’ ἱκανῶς ἔχει τὰ τοιαῦτα θεωρῆσαι. Ἄτοπον γὰρ τὸ αὐτὸ μεταξὺ εἶναι μόνον οὕτω [40]· δῆλον γὰρ ὡς καὶ τὰ εἴδη ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐνδέχοιτο ἂν εἶναι (τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἀμφοῖν ὁ λόγος). Ἔτι [41] δύο στερεὰ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι τόπῳ, καὶ οὐκ ἀκίνητον εἶναι τὸ μεταξύ (ἐν κινουμένῳ γὰρ ὄντι τῷ αἰσθητῷ ἀνάγκη κινεῖσθαι). Καθόλου δὲ τίνος χάριν δεῖ [42] ὑπολαμβάνειν εἶναι μὲν, ἐν τοῖς αἰσθητοῖς δέ; Συμβαίνει γὰρ τὰ αὐτὰ δυσχερῆ οἷς καὶ πρότερον εἴρηται· ἔσται γὰρ οὐρανὸς παρὰ τὸν οὐρανόν, μὴ χωριστὸς δέ, ἀλλ’ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ὅπερ ἀδυνατώτερον [43].Древнегреческий оригинал текста: Разъяснения по ссылкам:
[39] «τὰ μεταξὺ» («середина»):
· Это прямой термин для обозначения математических объектов в дискуссии того времени. Согласно Александру Афродисийскому (In Met. 98. 21–99. 2 Hayduck), эту теорию приписывают Евдоксу Книдскому и его школе. Математические сущности (числа, геометрические фигуры) считались «промежуточными» (τὰ μεταξύ) между идеями (вечными и неизменными) и чувственными вещами (преходящими и изменчивыми), так как они, подобно идеям, вечны и неизменны, но, подобно вещам, множественны.
[40] «Ἄτοπον γὰρ τὸ αὐτὸ μεταξὺ εἶναι μόνον οὕτω» («Маловероятно, чтобы так было только с серединой»):
· Аргумент Аристотеля строится на устранении произвольности. Если мы допускаем, что математические объекты, будучи особыми сущностями, могут существовать внутри чувственных вещей, то логически нет основания отрицать, что и более высокие сущности – идеи – тоже могут существовать там же. Это стирает границу между двумя типами сущностей и подрывает саму основу теории «промежуточного».
[41] «δύο στερεὰ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι τόπῳ» («два твердых тела должны были бы находиться в одном и том же месте»):
· Это отсылка к фундаментальному принципу аристотелевской физики, изложенному в «Физике», IV.6, 213b6-7: «Невозможно, чтобы два тела были в одном и том же месте». Если математическое тело (например, идеальный шар) является реальной, но не физической сущностью, занимающей место внутри физического шара, это нарушает данный принцип.
[42] «τίνος χάριν δεῖ ὑπολαμβάνειν εἶναι μὲν, ἐν τοῖς αἰσθητοῖς δέ» («почему нужно считать середину существующей, но существующей в сенсорных вещах?»):
· Это ключевой вопрос, вскрывающий ad hoc характер теории. Аристотель требует объяснения: зачем постулировать существование этой сущности именно таким противоречивым образом? Его собственный ответ, развитый в других книгах, заключается в том, что математические объекты не существуют отдельно, а мыслится отдельно через абстракцию (ἀφαίρεσις).
[43] «ἔσται γὰρ οὐρανὸς παρὰ τὸν οὐρανόν… ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ» («рядом с небом должно было бы существовать небо… в одном и том же месте»):
· Это кульминация reductio ad absurdum. Аристотель применяет теорию к конкретному примеру. Если астрономия изучает математические небесные сферы, которые, по данной теории, находятся внутри чувственного неба, то мы получаем два неба в одном месте. Это не только физически невозможно, но и логически бессмысленно, так как не объясняет, какое из них является истинным объектом науки.
Библиографический список (дополнение)
Источники:
1. Aristotelis Physica. Recognovit W.D. Ross. Oxford Classical Texts. Oxford University Press, 1950.
2. Аристотель. О небе. Перевод и примечания А.В. Лебедева. // Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 263–379.
3. Аристотель. Физика. Перевод и примечания В.П. Карпова. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1936. (Перевод сверен по изд.: Aristotelis Physica. Recognovit W.D. Ross. Oxford, 1950).
Комментарии и исследования:
1. Bonitz, H. Aristotelis Metaphysica. Commentarius. Bonn, 1848–1849. (Фундаментальный греко-латинский комментарий).
2. Ross, W. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924. (Классический комментарий на английском языке).
3. Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. 4 Bände. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848. (Цитированный комментарий).
4. Reale, G. Aristotle Metafisica. Saggio introduttivo, testo Greco con traduzione a fronte e commentario. 3 vols. Milano: Vita e Pensiero, 1993. (Современный итальянский комментарий).
5. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. (Содержит глубокий философский анализ «Метафизики»).
6. Бугай, Д.В. Аристотель и античная литература. Проблемы интерпретации наследия. М.: Издательство РУДН, 2002. (Содержит анализ конкретных пассажей «Метафизики»).
7. Александр Афродисийский. Commentaria in Aristotelem Graeca (CAG). Vol. I: In Aristotelis Metaphysica commentaria. Ed. M. Hayduck. Berlin: Reimer, 1891.
8. Aquinas, Thomas. Commentary on Aristotle's Metaphysics. Translated by J.P. Rowan. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.
9. Plato. Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Oxford Classical Texts. Oxford University Press, 1903. (Republic).
10. Платон. Государство. Перевод А.Н. Егунова. // Платон. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 3. М.: Мысль, 1994. С. 79–420.
11. Simplikios. Commentaria in Aristotelem Graeca (CAG). Vol. VII: In Aristotelis De caelo commentaria. Ed. I.L. Heiberg. Berlin: Reimer, 1894.
12. Heath, T.L. Mathematics in Aristotle. Oxford: Clarendon Press, 1949. (Классическая работа, детально разбирающая математические примеры у Аристотеля, включая аргумент о касании круга и прямой).
13. Лебedev, А.В. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М.: Наука, 1989. (Содержит собрание свидетельств о Протагоре, включая его полемику с геометрами, фр. В7).
14. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод М.Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1986. (Книга IX о Протагоре).
15. Alexander of Aphrodisias. On Aristotle's Metaphysics 2 & 3. Translated by W. E. Dooley & Arthur Madigan. Cornell University Press, 1992. (Содержит перевод комментария Александра Афродисийского на данную часть текста).
16. Cleary, J.J. On the Terminology of 'Abstraction' in Aristotle. // Phronesis, Vol. 30, No. 1 (1985), pp. 13-45. (Статья в журнале, подробно разбирающая аристотелевскую концепцию абстракции как альтернативу теориям «промежуточного»).
17. Cherniss, H. Aristotle's Criticism of Plato and the Academy. Vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944. (Классический труд, детально реконструирующий контекст полемики Аристотеля, включая теорию Евдокса).
18. Annas, J. Aristotle's Metaphysics Books M and N. Oxford: Clarendon Press, 1976. (Содержит подробный анализ аристотелевской критики платонических и пифагорейских теорий математических объектов).
Глава 3
[1] Здесь, таким образом, возникает большое затруднение, когда нужно сказать, какая доктрина истинна. Не менее сложным в отношении принципов является вопрос о том, следует ли рассматривать роды как элементы и принципы или, скорее, как основные составляющие каждой вещи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









