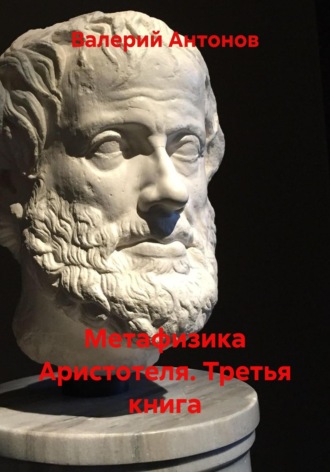
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Третья книга
Глава 2
[1] Итак, сначала о первом из поставленных вопросов: относится ли рассмотрение всевозможных принципов к одной науке или к нескольким. Можно ответить, что нескольким. Ибо как может принадлежать одной науке исследование всех принципов, ведь они не [2] противоположны друг другу?
Πρῶτον μὲν οὖν περὶ ὧν διείπομεν ἐν τοῖς ἀποροῦσι: πότερον μιᾶς ἢ πλειόνων ἐπιστημῶν ἐστὶ τὸ θεωρῆσαι πάσας τὰς ἀρχάς. πῶς γὰρ ἐνδέχεται μιᾶς ἐπιστήμης εἶναι τὰς ἀρχὰς πάσας θεωρῆσαι, ἐπειδὴ οὐδὲ ἀντίκεινται ἀλλήλαις;Древнегреческий оригинал: [1] «…первый из поставленных вопросов…» – Аристотель ссылается на перечень апорий (логических затруднений), изложенных в предыдущей, первой главе третьей книги «Метафизики» (995b 4-6, 996a 18-b 26). Данный вопрос является центральным для определения предмета и границ «первой философии».Комментарий: – Альберт Швеглер («Die Metaphysik des Aristoteles», 1847, Bd. III, S. 15) подчеркивает, что этот вопрос вытекает из самой сущности метафизики как науки о началах: «Die Frage, ob die Wissenschaft von allen Principien Eine sei, ist die nächste und natürlichste, welche an die Aufzählung der Principien selbst sich anknüpft».
– А.Ф. Лосев в своих комментариях (Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 1. М., 1975. С. 70) отмечает, что Аристотель здесь «ставит проблему универсальности первой философии, ее отношения к частным наукам».
[2] «…они не противоположны друг другу?» – Аргумент основан на аристотелевском понимании науки как системы знаний, объединенной единым родом предмета. Принципы (архэ), будучи разными по своей природе (форма, материя, цель, движущая причина), не образуют единого рода и, следовательно, не могут быть предметом одной науки.
– В.П. Карпов в переводе и комментариях («Метафизика Аристотеля», 2006, С. 55) пишет: «Аристотель исходит из того, что каждая наука имеет свой особый предмет, а потому и свои особые начала. Поэтому начала всех вещей не могут составлять предмет одной науки».
· Дэвид Росс («Aristotle's Metaphysics», 1924, Vol. I, p. 228) уточняет: «The principles are not contraries in the sense in which the objects of a single science must be, i.e., they are not members of a single genus».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Источники:
1. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. Ред. и вступ. ст. В. Ф. Асмуса. Пер. А. В. Кубицкого. М.: Мысль, 1975. С. 63–367.
2. Aristotelis Metaphysica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. Jaeger. Oxford Classical Texts. Oxford University Press, 1957.
9. Бугай, Д.В. Учение Аристотеля о началах бытия в «Метафизике»: дис. … канд. филос. наук. М., 2005.Основная литература: 3. Швеглер, А. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848. 4. Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924. 5. Bonitz, H. Aristotelis Metaphysica. Commentarius. Bonn: 1848–1849. 6. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. (Содержит подробные комментарии к метафизике Аристотеля). 7. Брагинская, Н.В. (ред.) Аристотель. Метафизика. Перевод и комментарии. В 4-х т. Т. 1. Книги I–V. М.: ИЦ РГГУ, 2022. 8. Карпов, В.П. «Метафизика» Аристотеля: опыт интерпретации. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 10. Савин, Е.Ю. Проблема единства науки о началах в III книге «Метафизики» Аристотеля // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. Серия Философия. 2013. № 4. С. 7–15.Статьи: Кроме того, не все принципы применимы ко многим вещам. Как возможно, например, чтобы в неподвижном существовал принцип движения или даже принцип конечной причины, блага, когда все, что есть благо само по себе и в силу своей природы, есть цель и, следовательно, причина постольку, поскольку другое есть и становится благодаря ему, а цель и причина – это конец действия, а все действия связаны с движением? Таким образом, принцип конечной причины и концепция изначального блага не могут быть применены к неподвижному. По этой причине в математике ничего не показывается с помощью этого [3] принципа, и не дается математического доказательства, что то или иное лучше или хуже, но рассуждения такого рода остаются здесь совершенно не у дел. Некоторые софисты, например Аристотельипп, по этой причине [4] пренебрежительно отзываются о математике: в других искусствах, говорит Аристотельипп, даже в ремеслах, как в плотничестве и сапожном деле, соображение о том, лучше или хуже то или иное, всегда имеет решающее значение; только математика безразлична к вопросу о хорошем и плохом. Но если, согласно вышесказанному, [5] существует несколько наук о принципах, а для каждого принципа – особая наука, то возникает вопрос, какая из этих наук должна считаться той, о которой идет речь, и кто из тех, кто ею владеет, является тем, кто знает предмет, о котором идет речь?
Ἔτι δὲ πάσαις οὐχ ὁμοίως ὑπάρχει πᾶσιν. πῶς γὰρ ἐνδέχεται τῶν ἀκινήτων εἶναι ἀρχὴν κινήσεως, ἢ τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τέλους; ἐπεὶ πᾶν ὃ ἂν ᾖ αὐτὸ αγαθὸν καὶ καθ' αὑτὸ καὶ τῇ φύσει, τέλος ἐστὶ καὶ οὕτως αἴτιον, ὡς οὗ ἕνεκα· ὥστ' ἔστι μὲν ὡς τριῶν οὐσῶν τῶν ἀρχῶν, ἔστι δ' ὡς τεττάρων. τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα ἀγαθόν ἐστι, καὶ ἡ αἰτία ἡ κινητική· ὥσπερ ἐν ζῴῳ ὅ τε νοῦς καὶ ἡ αἴσθησις, ὡς κινοῦντα. διὸ οὐχ ὁμοίως ἁπάσαις ὑπάρχει. ἔτι πῶς ἔσται τις ἐπιστήμη τῶν ἀρχῶν, εἰ μὴ ἔστι τἀναντία; πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἀπορήσειεν ἄν τις.Древнегреческий оригинал: [3] «…в математике ничего не показывается с помощью этого принципа…» – Аристотель проводит строгое разграничение между науками. Математика, будучи наукой об абстрактных количествах и фигурах, не рассматривает свои объекты с точки зрения цели, блага или движения. Ее доказательства оперируют necessity, а не целесообразностью. Этот тезис критикует платоновское представление о Едином-Благе как высшем математическом принципе.Комментарий: – Альберт Швеглер (Bd. III, S. 17) поясняет: «Die Mathematik kennt kein Warum der Zweckursache, sie beweist nur das Dass und das Wie; die Frage nach dem Guten und Besseren, die in allen praktischen Künsten und Wissenschaften die entscheidende ist, liegt ihr völlig fern».
· В.П. Карпов («Метафизика Аристотеля», 2006, С. 56) отмечает: «Аристотель подчеркивает, что математика, в отличие от физики и метафизики, не использует телеологические объяснения. Математический объект не "стремится" к благу, он просто подчиняется логической необходимости».
[4] «Некоторые софисты, например Аристотельипп…» – Аристипп Киренский, основатель киренской школы (гедонизм), ученик Сократа. Его критика математики основана на ее практической бесполезности с точки зрения этики и искусства жизни (τέχνη τοῦ βίου). Для Аристиппа высшее благо – это наслаждение, а математика не дает никаких руководств к его достижению.
– У.Д. Росс (Vol. I, p. 229) комментирует: «Aristippus' objection was that of a utilitarian to a study which seemed to have no bearing on conduct».
– А.Ф. Лосев (История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон, 1969, С. 102) рассматривает это в более широком контексте: «Критика Аристиппа отражает типично софистический взгляд на знание как на нечто, имеющее ценность лишь в мере своей прикладной полезности и способности доставлять чувственное удовольствие».
[5] «…возникает вопрос, какая из этих наук должна считаться той, о которой идет речь…» – Аристотель подводит к центральной апории: если есть несколько наук о началах, то какая из них является искомой «первой философией»? Этот вопрос позволяет ему в дальнейшем (в частности, в книге IV и особенно в VI и XII) определить ее уникальный статус как науки о сущем как таковом и о высшей, божественной сущности.
· Х. Бониц (Commentarius, 1849, p. 118) видит здесь ключевой поворот: «Hic iam aperitur via ad solvendum problema. Nam cum quaeritur, quaenam sit illa praestantissima scientia, necessario eo perducimur, ut eam esse dicamus, quae de ente qua ens et de substantia ac de prima omnium causa versatur».
– Д.В. Бугай («Учение Аристотеля о началах бытия», 2005, С. 78) акцентирует: «Аристотель не просто перечисляет апории, но через их столкновение выявляет специфику предмета первой философии. Вопрос о том, "какая наука главнейшая", заставляет искать такой аспект рассмотрения начал, который был бы универсальным и превосходил бы частные науки по своей мудрости».
Ибо, конечно, [6] может случиться, что все четыре принципа применяются к одной и той же вещи: в доме, например, движущей причиной является искусство и строитель, целью – здание, материалом – земля и камни, формой – план здания. Согласно уже данным нами определениям [7] понятия метафизической науки, каждая из этих наук может быть названа таковой. Ибо в той мере, в какой она является господствующей и повелевающей, а другие науки, подобно рабам, не могут ей противоречить, наука о цели и благе (ибо благо есть все остальное) является такой наукой. В той мере, в какой она была определена как наука о первых причинах и о самом познаваемом, наука о сущности относится к этому типу. Ибо хотя одна и та же вещь может быть познана несколькими способами, мы говорим, что тот, кто знает вещь положительно, знает больше, чем тот, кто знает ее только отрицательно, и среди первых мы приписываем большее знание одному, чем другому, и предпочтительно тому, кто знает, что это за вещь, а не тому, кто знает ее количественную или qualitative конституцию, [10] деятельную или страдательную природу. Кроме того, мы обычно считаем, что даже в том, что может быть выведено путем дедукции, знание имеет место, когда известно что, например, что что такое возведение в квадрат [11] – это нахождение центра, и т. д. С другой стороны, в случае производств и действий, а также в случае всех других становлений, мы считаем, что знаем, когда знаем принцип движения, движущую причину. Эта причина отлична от конечной причины и противоположна ей. Поэтому представляется, что рассмотрение каждой из этих причин относится к особой науке.
Ἔτι δ' ἐπεὶ πλείους αἱ ἀρχαί, πῶς αὐτῶν μία ἔσται ἡ ἐπιστήμη; ἢ πῶς γνωριεῖ ὁ τὴν ἐπιστήμην ἔχων τῶν ἀρχῶν, εἰ μὴ ἔστι μία; ἀλλ' ἐπεὶ συμβαίνει πολλαχῶς τὰς ἀρχὰς εἶναι, οὐχ ὁμοίως δὲ πάσας, ἀλλ' ἡ μὲν ὡς τὸ τί ἦν εἶναι ἡ δ' ὡς ἡ ὕλη ἡ δ' ὡς ὅθεν ἡ κίνησις ἡ δ' ὡς τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν (αὗται δ' εἰσὶν αἱ κυριώταται), δῆλον ὡς οὐχ οἷόν τε μιᾶς εἶναι πλὴν ἢ κατὰ ἀναλογίαν. ἐπεὶ δὲ πολλαχῶς λέγεται, δῆλον ὅτι οὐχ ἁπάντων μιᾶς ἐπιστήμης θεωρῆσαι τὰς ἀρχάς· οὐ γὰρ ὁμοίως πάντων αἱ ἀρχαὶ λέγονται. ἀλλ' ἆρ' οὖν καὶ τῶν opposites μιᾶς; οἷον τοῦ τε ἑνὸς καὶ τῆς δυάδος, καὶ ὅλως τοῦ ἑνὸς καὶ τῆς ποσότητος; ἢ τούτων μὲν οὐχ ἁπάντων, ἀλλὰ τῶν πρός τι μιᾶς· οἷον τοῦ ἑνὸς καὶ πολλοῦ, καὶ ταὐτοῦ καὶ ἑτέρου, καὶ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου, καὶ ἴσου καὶ ἀνίσου· πάντων γὰρ τούτων μιᾶς ἐπιστήμης θεωρῆσαι τὰς ἀρχάς, ἧς περὶ τῶν opposites ἐστὶν ἡ θεωρία. ἀλλ' ἐπεὶ συμβαίνει πάσας τὰς ἀρχὰς ἁρμόττειν ἐνίοις, οἷον τῇ οἰκίᾳ, ὅθεν μὲν ἡ κίνησις ἡ τέχνη καὶ ὁ οἰκοδόμος, οὗ ἕνεκα δὲ τὸ ἔργον, ἡ δ' ὕλη ἡ γῆ καὶ οἱ λίθοι, τὸ δὲ εἶδος ὁ λόγος.Древнегреческий оригинал: [6] «…все четыре принципа применяются к одной и той же вещи: в доме…» – Это классический аристотелевский пример, иллюстрирующий совместное действие всех четырех причин (αρχαί) в рамках единого сущего (ουσια). Пример дома становится paradigmatic для всей западной метафизической традиции.Комментарий: – Альберт Швеглер (Bd. III, S. 19-20) подробно разбирает этот пример: «Die bewegende Ursache ist die Kunst des Baumeisters und der Baumeister selbst, der sie ausübt; die Zweckursache ist das Haus als das zu verwirklichende Werk; die Materie sind Erde und Steine; die Form ist der Plan, die Idee des Hauses, nach der es gebaut wird. So wirken alle vier Ursachen zusammen zur Hervorbringung eines und desselben Dinges».
· У.Д. Росс (Vol. I, p. 230) добавляет: «This concrete example is crucial for Aristotle's argument. It shows that while the causes are distinct in definition, they are not necessarily separate in reality. This complexity is what makes the question of a single science of principles so difficult».
[7] «Согласно уже данным нами определениям…» – Аристотель ссылается на первоначальные характеристики «мудрости» (σοφία) или «первой философии», данные в книге I (Met. 982a-b): 1) знание всех вещей в наибольшей мере универсального; 2) знание наиболее трудных и малопознаваемых для человека вещей; 3) наиболее точное знание; 4) знание ради самого знания, а не для пользы; 5) главенствующее знание, которое предписывает, что делать другим наукам.
– Х. Бониц (Commentarius, p. 120) указывает: «Aristoteles revocat in memoriam ea, quae in primo libro de sapientiae natura disputata sunt, ut ex diversis illis notis diversae scientiae vindicentur».
· А.Ф. Лосев (Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 1. М., 1975. С. 71) подчеркивает: «Здесь Аристотель сталкивает разные определения мудрости, данные им ранее, чтобы показать, что каждое из них в отдельности может указывать на differentную науку о началах. Это создает видимость противоречия, которое и должна разрешить подлинная первая философия».
[10-11] «…тот, кто знает, что это за вещь… возведение в квадрат…» – Аристотель проводит различие между знанием «что есть вещь» (τὸ τί ἐστι) – знанием ее сущности, и знанием ее атрибутов или свойств (качеств, количеств и т.д.). Знание сущности является первичным. Пример с «возведением в квадрат» (τετραγωνισμός) – это геометрическая задача о нахождении квадрата, равновеликого по площади данному кругу (или другой фигуре). Знать «что это» – значит знать его сущность, т.е. что это есть нахождение средней пропорциональной или иного геометрического принципа (центра), а не просто уметь его построить.
– У.Д. Росс (Vol. I, p. 231) поясняет: «To know what squaring is, is to know that it is the finding of a mean proportional; this is to know its formal cause, which is to know it in the highest sense».
· В.П. Карпов («Метафизика Аристотеля», 2006, С. 57) комментирует: «Аристотель вновь утверждает примат знания формы и сущности над знанием материи или атрибутов. Даже в дедуктивных науках like mathematics, высшее знание – это знание определения (ὁρισμός), раскрывающего суть вещи».
Заключительный вывод апории: Аристотель демонстрирует, что разные аспекты «начал» и разные определения «мудрости» тяготеют к разным наукам: телеологический аспект – к науке о благе, аспект сущности – к науке о сущем и т.д. Это создает видимость, что единой науки о началах быть не может. Разрешение этой апории будет дано в последующих книгах через открытие науки о сущем как таковом, которая изучает все причины, но именно в их отношении к основной категории – сущности (οὐσία).
[12] Столь же спорно, относятся ли принципы доказательства к одной науке или к нескольким. Я называю принципами процесса доказательства общие посылки, из которых делаются доказательства, например, что все должно либо утверждаться, либо отрицаться, и что невозможно, чтобы что-то было и не было одновременно, и каковы эти посылки. Вопрос в том, образуют ли наука об этих принципах и наука о сущности одну науку или распадаются на две отдельные науки, и в последнем случае, какую из них [13] мы должны исследовать. Первое, что обе науки составляют одну науку, маловероятно. Ибо научное знание этих принципов не принадлежит, например, геометрии в большей степени, чем какой-либо другой науке. Если, следовательно, это знание принадлежит каждой науке в равной степени, но не может принадлежать всем, то оно не принадлежит, в частности, науке о сущности [14], как не принадлежит и другим.
Πότερον δὲ μιᾶς ἢ ἑτέρας ἐπιστήμης τὰς ἀρχὰς θεωρεῖν τὰς τοῦ συλλογισμοῦ, καὶ νῦν ἀπορήσειεν ἄν τις. λέγω δὲ τὰς κοινὰς ἀρχάς, ἐξ ὧν πάντες δεικνύουσιν, οἷον ὅτι πᾶν ἀναγκαῖον ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι, καὶ ὅτι ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται ἀξιώσεις. πότερον γὰρ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη τούτων τε καὶ τῆς οὐσίας ἐστίν, ἢ ἑτέρα, καὶ εἰ μὴ ἡ αὐτή, ποτέραν δεῖ ζητεῖν τὴν νῦν προκειμένην; οὐκ εὔλογον γὰρ τὴν αὐτὴν εἶναι· τί γὰρ μᾶλλον τῆς γεωμετρίας ἢ ἄλλης τινὸς ἐπιστήμης ἐστὶν ἡ περὶ τούτων ἐπιστήμη; εἰ δὴ πάσης ὁμοίως, οὐδὲ μᾶλλον τῆς περὶ τὴν οὐσίαν ἢ ἄλλης τινός, ἀλλ' οὐδὲ πάσης γε· οὐδενὶ γὰρ τῶν ἐπὶ μέρους ὑπάρξειεν ἄν.Древнегреческий оригинал: Комментарий:
[12] «…принципы доказательства… общие посылки…» – Аристотель переходит к следующей апории: принадлежит ли исследование общих аксиом (κοιναὶ ἀρχαί) логики, таких как закон исключенного третьего (πᾶν ἀναγκαῖον ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι) и закон непротиворечия (ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι), к науке о сущности (первой философии) или же это предмет отдельной науки (которую позже назовут логикой).
· Альберт Швеглер (Bd. III, S. 22) подчеркивает фундаментальность этого вопроса: «Die Frage, ob die Wissenschaft vom Seyn (Ontologie) auch die Wissenschaft von den obersten Denkgesetzen (Logik) in sich begreife, oder ob beide getrennt seien, ist von der höchsten Bedeutung für die ganze Aristotelische Systematik».
· У.Д. Росс (Vol. I, p. 232) уточняет: «Aristotle here raises the question whether the study of the axioms (which are the principles of reasoning in general) falls to metaphysics or to a separate science. This is a crucial point, for the axioms are used by all sciences».
[13] «…какую из них мы должны исследовать.» – Вопрос ставится практично: если это разные науки, то какую из них мы ищем под именем «первой философии»? Это усиливает диалектическое напряжение апории.
· Х. Бониц (Commentarius, p. 122) видит здесь ключ к методу Аристотеля: «Per haec interrogata Aristoteles nos ad sententiam suam perducit. Ostendit enim, si scientia de principiis syllogismi a scientia de substantia diversa sit, neutram earum esse illam primam philosophiam quam quaerimus, quae de principiis omnibus et de ente qua ens sit».
[14] «…оно не принадлежит, в частности, науке о сущности…» – Аристотель выдвигает сильный аргумент: поскольку общие аксиомы используются всеми науками без исключения, ни одна частная наука (включая науку о сущности) не может иметь монополии на их изучение. Они являются инструментом (ὄργανον) для всех, а не частью их предмета.
· А.Ф. Лосев (Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 1. М., 1975. С. 72) комментирует: «Аристотель приходит к выводу, что общие логические принципы не могут быть предметом ни одной из частных наук, включая учение о сущности. Они являются предпосылкой всякого знания вообще. Следовательно, для их изучения должна существовать особая наука».
· Д.В. Бугай («Учение Аристотеля о началах бытия», 2005, С. 81) акцентирует системность подхода: «Этот аргумент основан на аристотелевском различении между самим бытием и принципами, по которым мы о нем мыслим. Наука о сущности изучает бытие, но не законы мышления о бытии. Однако, как покажет дальнейшее исследование (особенно в кн. IV), это различие не абсолютно».
Разрешение апории: Хотя здесь Аристотель лишь формулирует затруднение, его окончательная позиция, изложенная в книге IV (Глава 3), состоит в том, что защита первых начал мышления (в частности, закона непротиворечия) все же является задачей философа, т.е. метафизика. Это не потому, что они являются частью ее предмета в узком смысле, а потому, что они являются свойствами самого сущего как такового (ὄντος ᾗ ὄν), и только та наука, которая изучает сущее в его всеобщности, может обосновать эти всеобщие принципы. Таким образом, метафизика выступает и как онтология, и как фундаментальная логика.
Но если наука о сущности и наука о высших логических принципах – это две разные науки, то возникает вопрос, какая из них более совершенная и более ранняя? По-видимому, последняя, ибо аксиомы являются наиболее общими и принципами всего. Точно так же их исследование кажется делом философа: если нет, то кто должен исследовать истинное и ложное относительно них? Вообще, существует ли одна наука или несколько для всего [18] реального? Если не одна, то какая реальность является объектом данной науки? Невозможно, чтобы одна наука охватывала все реальное, поскольку в противном случае существовала бы и одна доказательная наука для всех производных определений, так как каждая доказательная наука исследует фундаментальные свойства и определения данного предмета с точки зрения общепринятых логических предпосылок. Поэтому одной и той же науке принадлежит рассмотрение производных фундаментальных определений одного и того же вида бытия [19] с одного и того же основания логических предпосылок.
εἰ δ’ ἑτέρα ἡ τῆς οὐσίας καὶ ἡ περὶ τὰς ἀξιώματα, ποτέρα αὐτῶν αἱρετωτέρα καὶ προτέρα φύσει; ἡ μὲν γὰρ τῶν ἀξιωμάτων κοινοτάτη πάντων ἐστὶ καὶ ἀρχή, καὶ ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία δόξειε ἂν εἶναι μόνου τοῦ φιλοσόφου μάλιστα· εἰ γὰρ μή, τίς ἔσται ὁ σκεψόμενος περὶ αὐτῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος; ὅλως τε πότερον μία πάντων ἐστὶν ἐπιστήμη τῶν ὄντων [18] ἢ πλείους; εἰ δὲ μὴ μία, ποίαν δεῖ ταύτην προσαγορεύειν τῶν ὄντων; τὸ μὲν οὖν πάντων μίαν εἶναι ἀδύνατον· μία γὰρ ἂν εἴη καὶ ἡ ἀποδεικτικὴ περὶ τῶν συμβεβηκότων πάντων, εἰ πᾶσα ἀποδεικτικὴ περὶ ὅσα τινὰ ὑπάρχει περὶ γένος τι θεωρεῖ ἐκ τῶν κοινῶν. διὸ περὶ ταὐτὰ γένη καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν [19] κοινῶν ἔστιν ἡ αὐτὴ θεωρῆσαι πάντα τὰ ὑπάρχοντα.Древнегреческий текст (по изданию Беккера): Комментарий:
· [18] «…для всего реального?» (τῶν ὄντων)
o А. Швеглер (в своем комментарии к 995b10) указывает, что здесь Аристотель формулирует один из центральных вопросов всей «Метафизики»: является ли первая философия универсальной наукой о сущем qua сущее (ὂν ᾗ ὄν), или же она является одной из многих частных наук, занимающейся лишь определенным родом сущего (например, умопостигаемым). Швеглер подчеркивает, что этот вопрос непосредственно вытекает из предыдущего обсуждения аксиом и сущности (Die Metaphysik des Aristoteles, Bd. III, S. 104).
o А.Ф. Лосев в своей работе об истории античной эстетики, комментируя этот пассаж, акцентирует внимание на диалектике общего и частного у Аристотеля. Он пишет, что вопрос о «одной или многих науках» отражает стремление Аристотеля найти системообразующее начало для всей философии, которым в итоге и становится учение о сущем как таковом и его причинах (История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика, С. 45-46).
o Д.В. Бугай в своем переводе и комментарии к книге Β отмечает, что термин «реальное» (τὰ ὄντα) здесь следует понимать максимально широко – как «все существующее», «все сущее». Вопрос ставится о принципиальной возможности науки, предметом которой было бы это «все» в его единстве, а не просто механическая сумма частных наук (Аристотель. Метафизика. Книга III. Перевод и комментарий Д.В. Бугая, С. 87).
· [19] «…одного и того же вида бытия… с одного и того же основания…» (περὶ ταὐτὰ γένη καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν κοινῶν)
o А. Швеглер (S. 105) дает следующий анализ: Аристотель аргументирует против универсальной науки, основанной на едином наборе аксиом. Он исходит из своего определения науки как аподиктической, доказательной (ἀποδεικτικὴ). Каждая такая наука имеет свой собственный предмет (γένος τι – некий род) и свои собственные общие посылки (τὰ κοινά), из которых она выводит свойства этого предмета. Следовательно, если бы предметы разных наук (например, астрономии и ботаники) радикально различны, то и посылки, и доказательства будут различны. Не может быть единого доказательства для всех свойств всех вещей.
o W.D. Ross в своем классическом комментарии (Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary, Vol. I, p. 221) уточняет, что «общие посылки» (τὰ κοινά) здесь – это не абсолютно всеобщие аксиомы вроде закона противоречия, а общие начала для данного рода, например, определенные постулаты геометрии. Таким образом, структура научного знания, по Аристотелю, плюралистична: она состоит из множества автономных родовых наук.
o Д.В. Бугай (С. 88) комментирует, что этот пассаж демонстрирует аристотелевский «родовой» подход к организации знания. Единство науки задается не формальным единством логических правил (которые действуют во всех науках), а единством ее предметной области – рода (γένος). Поэтому вопрос, поставленный в начале, остается в силе: если есть наука о первых началах и аксиомах, то какой же род является ее предметом? Ответ на это будет дан в книге IV (Γ).
Кроме того, вопрос в том, касается ли исследование только реального, или [20] также его фундаментальных свойств. Я имею в виду, например, если тело – реальная вещь, а также линии и поверхности, то является ли познание этих вещей и познание существенных свойств каждой из них, которые демонстрирует математика, делом одной и той же науки или двух разных? Если это дело одной и той же науки, то наука [21] о сущности также была бы доказывающей наукой, тогда как из «что» не следует никакой дедукции; с другой стороны, если это дело другой науки, то какая из них будет считать производные свойства реального? Это очень сложный вопрос.Ведь то, что доказывается, принадлежит одной науке, а предпосылки, из которых это доказывается, принадлежат одной, будь то той же или другой; следовательно, либо сами эти науки, либо одна из них должны рассматривать выведенные определения. τὰ μὲν γὰρ ἀποδεικνύμενα ἑνός ἐστιν ἐπιστήμης, ἐξ ὧν δ’ ἀποδεικνύει, ἑνός, εἴτ’ αὐτοῦ εἴθ’ ἑτέρου· ὥστε ἢ αὗται ἢ ἡ μία αὐτῶν ἔσται ἡ θεωρήσασα περὶ τῶν συμβεβηκότων. ἔτι πότερον περὶ τὰ οὐσίαν μόνον ἡ σκέψις ἐστίν, ἢ καὶ περὶ [20] τὰ συμβεβηκότα ταῖς οὐσίαις; λέγω δ’ οἷον, εἰ σῶμα ὂν τι, καὶ ἐπίπεδον, καὶ γραμμή, πότερον περὶ ταῦτα καὶ περὶ τὰ συμβεβηκότα ἑκάστοις τούτων ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἢ ἑτέρα; εἰ μὲν γὰρ ἡ αὐτή, καὶ τῆς οὐσίας ἂν εἴη ἀποδεικτική τις, [21] οὐκ οὔσης συλλογισμοῦ ἐκ τοῦ τί ἐστιν· εἰ δ’ ἑτέρα, τίς ἄρα ἔσται ἡ περὶ τὰ συμβεβηκότα τοῖς οὖσι θεωροῦσα ἐπιστήμη; τοῦτο γὰρ ἀπορίας μεῖζον.Древнегреческий текст (по изданию Беккера): Комментарий:









