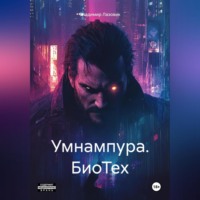Полная версия
Ты был лучше всех
Нет. Хватит. Она не собирается подкармливать свое сумасшествие. Не будет сидеть тут до рассвета, выискивая в чужом бреду отражение собственного. Это путь в никуда, в мягкие стены и тихие разговоры с потолком. Нужно просто поспать. Сон – лучшее лекарство от наваждений. Завтра. Завтра она сядет за него снова, но уже с холодной, отдохнувшей головой. С головой, способной к анализу, а не к панике.
Это решение, принятое с отчаянной волей, стало ее программой на ближайшие несколько минут. Вера встала. Методично, как робот, она закрыла все окна на ноутбуке и выключила его. Яркий экран погас, на мгновение превратившись в черное зеркало, в котором отразилась ее бледная, искаженная фигура, а затем и он растворился в темноте. Она протянула руку к настольной лампе и щелкнула выключателем. Желтый, интимный круг света, ее рабочий кокон, исчез.
Комната погрузилась в другой, призрачный полумрак. Его источником был экран на стене. Он все это время работал, и Вера, не оборачиваясь, оставила его включенным. Тишина была ее врагом еще с детства. Она не могла спать в ней. Абсолютная тишина была не пустотой, а холстом, на котором ее воображение рисовало самые страшные картины – скрипы, шаги, шепот за дверью. Поэтому ей всегда нужен был шум. Безликий, монотонный, чужой.
Она прошла к кровати, ее босые ноги ощущали прохладу старого паркета. Простыни были холодными, и это ощущение чистого, почти стерильного холода на мгновение принесло облегчение. Она забралась под тяжелое одеяло, натянув его до самого подбородка, словно возводя бруствер.
Она лежала, глядя в потолок, на котором плясали синеватые и белые отсветы от экрана. До нее доносился бессвязный гул голосов и рекламных джинглов – идеальный звуковой барьер, стена, отгораживающая ее от собственных мыслей. Она заставила себя расслабить плечи, сделать глубокий вдох. Но даже с закрытыми глазами, отвернувшись от стола, она чувствовала его. Он был там, в темноте. Тяжелый, кожаный, полный ядовитых откровений. Он ждал. И Вера знала, что завтрашняя «холодная голова» – это всего лишь самообман. Она не победила. Она просто объявила перемирие до утра.
Утро просочилось в комнату не ярким светом, а серым, разбавленным молоком полумраком, который едва пробивался сквозь плотные шторы. Вера проснулась не от будильника, а от тишины. Ночью реалити-шоу сменилось на что-то другое, а потом экран погас, перейдя в спящий режим. И тишина, ее старый враг, тут же заполнила все углы.
Она села на кровати, чувствуя во рту привкус вчерашнего страха. Голова была тяжелой, как будто ее набили мокрой ватой. Первый осознанный взгляд метнулся к письменному столу. Дневник лежал там, где она его оставила – темный, чужеродный объект в утреннем полусвете. Он был похож на спящего хищника.
Нет. Он подождет.
Это решение было принято с холодной, почти злой решимостью. Сегодня утром она будет принадлежать не ему, а себе. Сегодня утром она вернет себе контроль над реальностью через ритуалы.
Она выбралась из-под одеяла, и прохладный воздух заставил ее поежиться. Путь в ванную комнату был привычным и механическим. Включила свет. Бледная люминесцентная лампа загудела и замерцала, прежде чем залить маленький кафельный мирок ровным, безжалостным светом. Вера посмотрела на себя в зеркало. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, растрепанные волосы. Она выглядела как героиня одного из своих неписаных триллеров.
Она выдавила на щетку полоску мятной пасты. Вкус был резким, химическим, он щипал язык и на мгновение заглушил все остальные ощущения. Она чистила зубы долго, методично, с нажимом, словно пыталась соскоблить не налет, а остатки ночных кошмаров. Сплюнула белую пену в раковину. Затем открыла кран, и ледяная вода обожгла ладони. Она плеснула ею в лицо раз, другой, третий. Холодный шок прогнал остатки сна, заставив кровь быстрее бежать по венам.
Затем – на кухню, в ее маленькую алхимическую лабораторию. Вера достала гейзерную кофеварку. Металл был холодным и гладким. Она раскрутила ее со знакомым натужным скрипом. Налила воды из-под крана, отмеряя количество не глазами, а по весу в руке. Зачерпнула ложкой темный, почти черный порошок из банки. Запах молотого кофе был горьким и настоящим – запахом утра, запахом начала. Она тщательно утрамбовала его, собрала кофеварку и поставила на огонь.
Прислонившись к столешнице, она смотрела на синие языки пламени. Шипение газа было единственным звуком в квартире. Она не думала о дневнике. Она заставляла себя не думать. Она думала о температуре воды, о давлении пара, о моменте, когда начнется это характерное, булькающее клокотание. Она превратила приготовление кофе в акт медитации, в способ зацепиться за физический, понятный мир. Мир, где у каждого действия есть предсказуемое последствие. Мир, в котором не было выцветших чернил и чужих, всезнающих голосов.
С кружкой обжигающего, горького кофе в руке она вернулась за стол. Ноутбук открылся с тихим щелчком, его экран ожил, снова залив ее рабочее место стерильным белым светом. На этот раз она села так, чтобы дневник оказался вне поля ее зрения, сбоку, в зоне периферического сумрака. Он был там, она это знала. Его тяжелое, молчаливое присутствие ощущалось почти физически, как присутствие человека, стоящего за спиной. Он голодно ждал. Но она не поддалась.
Она открыла вчерашний файл. Ее пальцы легли на клавиатуру. Первые несколько минут были пыткой. Мысли, словно непослушные дети, постоянно убегали от вампирского романа к кожаному переплету. Образы из дневника накладывались на ее собственный текст, как двойная экспозиция на старой фотопленке. Строка «он ничего не понимает» звучала в голове, пока она пыталась описать самодовольную улыбку Аларика.
Но потом, медленно, с усилием, которое потребовало всей ее воли, она начала погружаться. Профессионализм, выкованный годами дисциплины, взял верх. Она зацепилась за одну деталь. За запах антикварной лавки, куда пришла Изабелла. И начала раскручивать его, как нить из клубка.
Она писала не просто о «запахе пыли». Она писала о слоистом аромате, где нижняя нота – это сладковатый, почти грибной дух бумажного тлена, а верхняя – острый, смолистый запах воска для полировки мебели. Она описывала, как луч света, пробившийся сквозь мутное стекло, не просто освещает, а проявляет в воздухе мириады танцующих пылинок, превращая затхлую атмосферу в подобие волшебного, замедленного снегопада.
Пальцы двигались быстрее. Она заставила Изабеллу не просто «увидеть» дневник, а почувствовать его. Она описывала, как взгляд ее героини, скользя по безликим предметам, вдруг спотыкается о него, словно на ровной поверхности наткнулся на камень. Она передавала нерешительность ее протянутой руки, почти осязаемый зазор в пару миллиметров между кончиками ее пальцев и прохладной, потрескавшейся кожей переплета, наполненный статическим электричеством ожидания.
Она писала хорошо. Даже сквозь навязчивый шепот в голове, она чувствовала это. Ее проза обретала плотность, текстуру. Она не просто сообщала факты, она создавала ощущение. Она была не рассказчиком, а гипнотизером, погружающим читателя в состояние своей героини. Она плела вязкую, тягучую паутину из слов, заманивая в нее, заставляя чувствовать холод сквозняка на коже и слышать скрип половиц под ногами Изабеллы.
Она работала, игнорируя голод дневника, как игнорируют навязчивую мелодию. Она знала, что он никуда не денется. Но сейчас, в эти несколько часов, она была хозяйкой положения. Она была не жертвой чужой истории, а демиургом своей собственной. И это давало ей иллюзию силы.
Она поставила точку. Не финальную, а лишь очередную запятую в бесконечной цепи предложений, но на сегодня – это была точка. Вера закрыла крышку ноутбука. Громкий щелчок прозвучал в тишине как выстрел стартового пистолета. Гонка с самой собой на сегодня была окончена.
Она не встала. Лишь медленно, с фатальной неизбежностью, развернула свой стул. Теперь она сидела лицом к нему.
Дневник лежал на столе, в том же самом месте, куда она вчера в сердцах его отбросила. В сером дневном свете он казался еще старше и чужероднее. Он перестал быть просто находкой, реквизитом. Теперь это был собеседник. Обвинитель. Оракул.
Вера сидела напротив него и просто смотрела. Она изучала его, как изучают лицо спящего врага. Сеть мелких трещин на коже, похожая на карту неведомой страны. Сбитые уголки, сохранившие память о падениях. Едва заметное темное пятно у корешка, похожее на след от большого пальца, который снова и снова открывал эту книгу в одном и том же месте.
Она выдохнула. Длинно, шумно, выпуская из легких не только воздух, но и остатки своего сопротивления. Битва за утро была выиграна, но война продолжалась. И она знала, что не сможет жить в состоянии этого вооруженного нейтралитета. Ей нужно было знать.
Она собиралась снова его открыть.
На этот раз это был не порыв любопытства, не творческий поиск. Это был осознанный, холодный эксперимент. Проверка. Она собиралась проверить свое собственное сумасшествие. Если сегодня она найдет там что-то новое, что-то, что снова до жути точно совпадет с ее реальностью, тогда… тогда ей придется признать, что происходит нечто, выходящее за рамки простой случайности или игры воображения.
Она протянула руку. Пальцы были холодными, но не дрожали. Она взяла дневник. Он был тяжелым и прохладным. Сделав еще один глубокий вдох, как перед прыжком в ледяную воду, она открыла его.
Страницы раскрылись с сухим, знакомым шелестом. Вера не стала открывать наугад. Она методично нашла те самые, вчерашние записи, которые выбили ее из колеи.
Все было на месте.
Вот строка про горгулью, плачущую ржавчиной. Вот ее имя, «Вера», вписанное в контекст чужого сна о коридоре с бесконечными дверями. И вот оно – имя ее бывшего, «Павел», брошенное с презрением на бумагу. Ничего не изменилось. Ничего не исчезло. Это не был ночной морок. Это была задокументированная, выцветшая от времени реальность.
Ее взгляд, теперь более внимательный, более цепкий, снова и снова пробегал по строкам, ища то, что она могла упустить. И она нашла.
Это была крошечная деталь, которую вчера ночью, в желтом, дрожащем свете лампы, было совершенно невозможно разглядеть. Она пряталась в самом конце абзаца про Павла, почти сливаясь с последней точкой. Маленькая, почти каллиграфическая подпись. Две буквы, соединенные витиеватым росчерком.
«твой М.»
Твой.
Слово было интимным, как шепот на ухо. Оно постулировало право, принадлежность. Оно было собственническим и нежным одновременно.
Твой кто? Михаил? Максим? Марк? Мужчина? Мучитель?
Эта одна буква, этот инициал, оказался страшнее, чем все имена и совпадения до этого. Имена можно было списать на случайность. Детали – на больное воображение. Но «М.» был конкретен. Он был личностью. Он был автором всего этого безумия, и он ставил свою подпись под каждым словом, под каждым украденным у нее вздохом.
И этот М. пугал ее по-настоящему. Он больше не был анонимным голосом, призраком, порождением ее усталости. Он обрел контур, идентичность, пусть и скрытую за одной буквой. Он был реальным человеком, который когда-то жил, дышал и был одержим женщиной, поразительно похожей на Веру. Или, что было еще страшнее, он был одержим именно ею, каким-то непостижимым образом заглядывая в ее жизнь из своего далекого прошлого.
Вера смотрела на эти две буквы, и ей казалось, что они смотрят на нее в ответ. Это была печать. Клеймо. И оно стояло на ней.
Холод, начавшийся в кончиках пальцев, медленно пополз вверх по рукам, сковывая ее. Она перелистнула страницу. Пальцы двигались сами по себе, будто исполняя чужую волю. Новая запись. Почерк был другим – резким, торопливым, словно слова выплеснулись на бумагу в один миг, без раздумий.
«она задается вопросом, откуда я всё знаю»
Воздух в легких Веры застыл. Это было прямое попадание. Не намек, не совпадение. Это был ответ на ее безмолвный, отчаянный вопрос, который она задавала себе все это утро.
Но это было еще не все. Следующая строка, идущая сразу за первой, без паузы, была еще хуже.
«я задаюсь вопросом как это попало к ней в руки»
Двойной удар.
Он не просто знал ее мысли. Он знал, что она держит его дневник. Сейчас. В эту самую секунду.
Это было за гранью. За гранью логики, за гранью страха, за гранью безумия. Это была абсолютная, невозможная, свершившаяся реальность. Стены комнаты, иллюзия времени, ее собственная личность – все это на мгновение пошатнулось, как декорации в театре.
– А-а-ах!
Это был не крик, а сдавленный, животный звук, вырвавшийся из самого нутра. Ее тело среагировало раньше, чем мозг успел обработать прочитанное. Рука, словно отдернутая от раскаленной плиты, с нечеловеческой силой отшвырнула дневник.
Книга полетела, кувыркаясь в воздухе, и с громким, трескучим хлопком врезалась в стену, оставив на выцветших обоях темную отметину. От удара она раскрылась и упала на пол, раскинув страницы, как птица со сломанными крыльями.
Но Вера этого уже не видела. Резкое, паническое движение, полная потеря равновесия из-за неуклюжести собственного тела – и стул под ней качнулся, заваливаясь набок. На одно долгое, сюрреалистичное мгновение она зависла в воздухе, а потом с грохотом рухнула на пол вместе с ним.
Боль пронзила бедро и локоть, но она почти не почувствовала ее. Она лежала на полу, запутавшись в ножках стула, тяжело дыша, и смотрела в потолок. В ее ушах стоял оглушительный звон. Это был звук, с которым реальность окончательно дала трещину.
Она лежала на полу, в нелепой позе, запутавшись в ножках перевернутого стула, как в силках. Мир медленно возвращался в фокус. Первым пришло ощущение – тупая, пульсирующая боль в затылке, где она приложилась о паркет. Она инстинктивно подняла руку и начала чесать ушибленное место, пальцы наткнулись на наливающуюся шишку.
Ее взгляд, мутный и расфокусированный, метался по комнате, пока не нашел его. Дневник. Он лежал в дальнем углу, у самого плинтуса, раскрытый, униженный, но все еще угрожающий. Он казался живым существом, которое затаилось после прыжка.
Вся паника, весь страх, весь метафизический ужас последних суток сгустился в одно-единственное, чистое, как кристалл, чувство.
Ненависть.
Вера приподнялась на локте, все еще сидя на полу. Она смотрела на книгу, и ее губы скривились в злой, почти безумной усмешке.
– Я тебя сожгу к херам, – произнесла она. Голос был хриплым, но на удивление твердым. Это не было пустой угрозой. Это было обещание. Она говорила не с предметом, не с кипой старой бумаги. Она обращалась к нему. К «М.». К тому, кто сидел по ту сторону времени и дергал за ниточки ее рассудка.
Она произнесла это вслух, чтобы он услышал. Чтобы знал, что игра окончена. Что она больше не его Вера, не его экспонат, не его героиня. Она – его приговор.
Глава 4. Шепот со страницы
Боль в затылке превратилась в холодную, острую ярость. Она стала для Веры топливом. Паника прошла, оставив после себя выжженную землю и единственную, кристально ясную цель. Она больше не была жертвой. Она стала следователем в деле о своем собственном рассудке. И первой уликой, первым свидетелем был тот, кто продал ей это проклятие.
Она оделась быстро, механически. Тот же черный плащ, те же тяжелые ботинки. Броня для вылазки во враждебный мир. Дневник она оставила дома, заперев его в ящике письменного стола. Она не хотела, чтобы он был с ней. Это была ее операция, не его.
Аэробус плыл над Фальтико, но сегодня город выглядел иначе. Шпили больше не царапали небо, они пронзали его. Горгульи на фасадах не просто смотрели – они скалились. Беззвучное скольжение капсулы по магнитной дороге больше не казалось футуристичным чудом, оно ощущалось как зловещее, неестественное движение призрака. Вера смотрела в темное стекло, но видела не город, а собственное отражение: бледное лицо, сжатые губы, глаза, в которых горел холодный, решительный огонь.
Она сошла на той же станции. Запах соли и жареных каштанов встретил ее, как старый знакомый, но теперь в нем чувствовалась фальшь. Блошиный рынок больше не казался ей сокровищницей чужих историй. Теперь это было место преступления. И она пришла найти того, кто оставил орудие на видном месте.
Вера двигалась сквозь толпу с целеустремленностью хищника. Она не смотрела на товары. Веера из черного кружева, музыкальные шкатулки со скелетами, потускневшее серебро – все это был лишь мусор, визуальный шум, который она отфильтровывала. Ее взгляд сканировал лица. Она искала пергаментную кожу, мутные, как стоячая вода, глаза и беззубую ухмылку.
Она прошла первый ряд. Второй. Она помнила примерное место – где-то в середине, рядом с развалом старого столового серебра, которое бликовало на солнце. Она шла уверенно, почти не замедляя шага. Вот он, этот развал, горы вилок и ложек, похожих на скелеты диковинных рыб. Она повернула голову налево, готовая впиться взглядом в лицо старика.
Но его там не было.
На его месте, на цветастом покрывале, сидела молодая женщина с дредами и продавала самодельные украшения из проволоки и речных камней.
Вера замерла. Может, он отошел? Она подождала минуту, две. Женщина подняла на нее вопросительный взгляд.
– Вы что-то хотели?
– Здесь сидел старик, – сказала Вера, ее голос был ровным, без эмоций. – Продавал всякий хлам. Книги, шкатулки.
Женщина пожала плечами.
– Я с самого утра здесь. Это место было пустым.
Пустым. Слово повисло в воздухе. Вера не поверила. Она пошла дальше, к соседним торговцам. Она описала его женщине с лицом обиженного мопса, торговавшей фарфоровыми трупиками кукол. Та лишь неопределенно махнула рукой. Она спросила у мужчины, чей прилавок был завален ржавыми военными медалями. Он посмотрел на нее так, будто она говорила на другом языке.
Никто. Никто его не помнил. Не то чтобы он ушел. Его как будто и не было вовсе. Он был пробелом, фантомом, которого видела только она.
Вера вернулась на то самое место и остановилась, глядя на молодую женщину, кропотливо скручивающую медную проволоку. Она поняла. Продавец не был просто продавцом. Он был курьером. Почтальоном из прошлого. И он доставил посылку, после чего растворился в воздухе, из которого и появился.
Он не просто ушел. Он испарился. И эта мысль была страшнее любой находки в проклятом дневнике.
Аэробус нес ее обратно сквозь каменные каньоны Фальтико. Ярость, которая была ее топливом, выгорела, оставив после себя холодную, звенящую пустоту. Исчезновение продавца было последней каплей. Оно сместило ситуацию из области странного и пугающего в область невозможного. И в этом невозможном мире старые правила больше не действовали.
Она вошла в квартиру. Тишина. Дневник лежал там же, где она его запрела. Но Вера не чувствовала к нему ни капли жалости.
Она медленно подошла к нему, глядя сверху вниз. Затем присела на корточки. Она не спешила его поднимать. Она изучала его, как изучают незнакомое, потенциально опасное животное. Затем, сделав глубокий вдох, она аккуратно подняла его, ощутив знакомую тяжесть в ладонях. Она закрыла его, проведя рукой по обложке, стряхивая невидимую пыль.
Вера прошла к своему письменному столу и положила дневник в центр, на его законное место. Она не села. Она стояла над ним, сложив руки на груди. Власть была на ее стороне. У нее было то, чего боялся любой автор, любой рассказчик – право на финальную редактуру. Право на огонь.
Она наклонилась к нему, словно говорила с живым человеком, и ее голос, тихий и лишенный всяких эмоций, прозвучал в пустой комнате оглушительно.
– Раз ты мне отвечаешь, – начала она, делая паузу после каждого слова, вбивая их, как гвозди, – ответишь на парочку моих вопросов.
Она выпрямилась, ее взгляд был холодным и твердым.
– Иначе придам тебя огню. Я не шучу.
Это не было угрозой, рожденной в панике. Это был ультиматум. Холодный, взвешенный деловой ультиматум, предложенный сущности, обитающей по ту сторону реальности. Она больше не собиралась быть пассивным читателем его исповеди. Она становилась его инквизитором.
Прежде чем продолжить свой допрос, Вера сделала паузу. Холодная логика, пусть и сильно потесненная метафизическим ужасом, потребовала своего. А что, если объяснение проще? Жестокое, изощренное, но простое.
Она встала из-за стола и начала обыск.
Ее движения были медленными, методичными, как у сапера. Она не просто оглядывалась. Она искала аномалии. Инородные тела в привычном ландшафте ее беспорядка.
Сначала – камеры. Она осмотрела потолок в углах, место, где люстра крепилась к потолку, вентиляционную решетку. Провела пальцами по корешкам книг на полках, ища неровности, крошечные объективы. Заглянула в глазницы фарфоровой куклы, которую когда-то привезла из поездки. Ничего.
Затем – микрофоны. Она подняла стопки бумаг на столе, проверила днище настольной лампы, заглянула под клавиатуру. Постучала по раме картины на стене, прислушиваясь к звуку. Проверила розетки, вытащив из них вилки.
Ее квартира была ее продолжением, ее второй кожей, и она знала каждый ее изгиб, каждый шрам. И она не нашла ничего чужого. Ни одного блестящего глаза камеры, ни одной подозрительной сеточки микрофона.
И пока она искала, ее мозг лихорадочно перебирал подозреваемых.
Розыгрыш? Но кто мог его устроить?
Лада? Ее лучшая подруга была саркастичной, иногда даже жестокой в своих шутках. Но она не была способна на такую изощренную, психологически выверенную пытку. К тому же, Лада давно не заходила в гости, она не могла ничего подбросить. Она считала всю эту историю бредом, а не поводом для сложного пранка.
Пашка? Павел. Мысль о нем была неприятной, как привкус желчи. Он был мастером манипуляций, гением газлайтинга. Он был бы способен на такое. Он любил доказывать свое интеллектуальное превосходство, ломать ее, чтобы потом собрать заново по своему усмотрению. Но его уже сто лет не было в ее жизни. Их разрыв был окончательным, сожженные мосты дымились еще долго. Зачем ему это сейчас? Из мести? Слишком сложно. Слишком затратно.
Непонятно.
Круг подозреваемых был пуст. Логические объяснения рассыпались, как песочные замки под ударом волны.
Вера закончила обыск, стоя посреди комнаты. Она не нашла ничего. И это отсутствие доказательств было самым страшным доказательством из всех. Оно означало, что враг не снаружи. Он не использует технологии. Он использует что-то другое. Что-то, против чего у нее не было защиты.
Она снова вернулась к столу. Теперь она была уверена. Ее единственный собеседник – это он. Дневник. И «М.».
Она села за стол. Ее движения были точными, лишенными суеты. Она взяла первую попавшуюся ручку – дешевую, шариковую, с синими чернилами. Ее собственный почерк рядом с летящим, каллиграфическим почерком «М.» будет выглядеть грубо, как граффити на стене старинного собора. Но в этом и был смысл. Это был ее голос, ее вторжение на его территорию.
Вера открыла дневник на первой попавшейся чистой странице. Белизна листа резанула по глазам после исписанных сепией страниц. Она не стала долго думать над формулировками. Ее вопросы были выжимкой всего ее страха и гнева, двумя прямыми ударами.
Она написала, чуть надавливая на ручку, оставляя на бумаге синий, современный след.
Кто ты такой?
А затем, строчкой ниже:
И что тебе от меня нужно?
Лаконично. По делу. Без истерики. Она не просила. Она требовала.
Закончив, она не стала перечитывать. Она просто захлопнула дневник. Глухой хлопок прозвучал как удар судейского молотка. Ультиматум был предъявлен. Теперь оставалось только ждать ответа.
Но ждать в состоянии такого нервного напряжения было невозможно. Ее тело гудело, как натянутая струна. Мышцы свело от усталости, а мозг, наоборот, был взвинчен до предела. Она не сможет уснуть по-настоящему, это было очевидно. Но ей срочно, жизненно необходимо было отключиться хотя бы на время.
Ей нужен был дрём. Не полноценный сон с его вязкими, неконтролируемыми кошмарами, а короткое, поверхностное забытье. Передышка.
Вера прошла в спальню, не раздеваясь. Она просто стянула ботинки и рухнула на кровать поверх покрывала. За окном был день, но она плотно задернула шторы, погрузив комнату в густой, багровый сумрак. Она не стала включать телевизор. Сейчас ей не нужен был белый шум, чтобы заглушить мысли. Сейчас ей нужно было погрузиться в них, но сделать это в безопасном, горизонтальном положении.
Она закрыла глаза. Перед внутренним взором тут же всплыли синие, корявые буквы ее вопроса на фоне идеально белой страницы. Она лежала неподвижно, прислушиваясь к гулу крови в ушах, и ждала, когда сознание смилостивится и отпустит ее хотя бы на час.