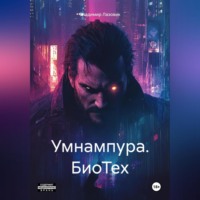Полная версия
Ты был лучше всех
– Нет. Это другое. – Вера провела пальцем по переплету, ощущая его сухую, потрескавшуюся текстуру. – Там… там такой почерк. И мысли… Это не просто записи о погоде. Там одна фраза…
Она замолчала, вспоминая эти размашистые, яростные буквы.
– И какая же фраза заставила тебя потратить последние деньги? «Купить молока»?
– «Только я мог тебя спасти», – произнесла Вера почти шепотом, и эти слова в тишине ее комнаты прозвучали весомо и страшно.
На том конце провода повисла пауза. Впервые за весь разговор ирония Лады дала сбой. Наконец, она произнесла, и в ее голосе уже не было сарказма, только спокойная констатация:
– Звучит как отличная эпитафия для очередного мертвеца в твоих триллерах, которые ты не пишешь. Ладно, не буду отвлекать от прокрастинации. Позвони, если решишь сжечь этот артефакт или вызвать экзорциста.
Короткие гудки.
Разговор оборвался, и цифровая связь с реальным миром прервалась. Тишина, хлынувшая в комнату, была густой и напряженной. Вера осталась одна.
Она и голос в чернилах.
Она двинулась вглубь комнаты, к шкафу, похожему на темный саркофаг. Распахнула створки. Там, в полумраке, висели вещи для внешнего мира – строгие, держащие форму, лживые. Вера потянулась не к ним. Она извлекла из недр ворох чего-то мягкого и бесформенного.
Сняв майку, она на мгновение застыла, ощущая, как прохладный, неподвижный воздух квартиры касается ее кожи, ложится на плечи тонким, невидимым слоем пыли. Сбросила джинсы, их грубая ткань с тихим шорохом сползла по ногам. Секунда наготы в собственном доме – и она облачилась в свою настоящую униформу. Старые, серые, почти бесцветные от стирок штаны из мягкого трикотажа, не держащие никакой формы, и растянутая футболка с выцветшим, растрескавшимся принтом давно забытой музыкальной группы. Эта одежда не сковывала, не диктовала, как сидеть или стоять. Она была уступкой, капитуляцией перед усталостью. Собрав волосы в небрежный узел на затылке и закрепив их потрепанной резинкой, Вера наконец стала собой – той версией, которую никто, кроме стен этой квартиры, не видел.
И в этот самый момент тишину пронзил резкий, цифровой писк.
Будильник на телефоне. 19:00.
Звук был отвратительным, требовательным, как скрип ногтей по стеклу. Он вонзился в мозг, безжалостно выдергивая ее из тумана размышлений о новой находке. Вера с тяжелым вздохом провела пальцем по экрану, убивая писк. Приговор. Пора садиться за роман.
Она села за стол, бросив взгляд на светящийся монитор, где ее ждал открытый документ. На экране – очередная сцена ее мучений. Вампир Аларик только что прижал главную героиню, Изабеллу, к холодной кирпичной стене старой библиотеки. Она, естественно, дрожит, но не от страха, а от… чего? Вера сама еще не решила, от чего именно. От «запретного влечения»? От «осознания его нечеловеческой силы»? Перед ней стояла тошнотворная дилемма: вложить в уста Аларика либо банальное «Ты играешь с огнем, дитя», либо претенциозное «Твоя душа пахнет жимолостью и упрямством».
Ее пальцы застыли над клавиатурой. Взгляд невольно сместился с фальшивой драмы на экране на реальный, материальный объект, лежащий рядом. На тяжелый кожаный дневник. Там, в четырех словах, было больше правды и боли, чем во всех ее ста пятидесяти страницах о вампирах. Она отвела глаза и заставила себя снова посмотреть на курсор, пульсирующий в конце абзаца. Работа ждала.
Два часа. Ровно два часа она отдала Аларику и его готическим терзаниям. С последним ударом виртуальных часов на экране монитора Вера сохранила документ. Дисциплина была ее единственным якорем в океане прокрастинации. Она отработала свою смену на заводе по производству клише. Теперь время принадлежало ей.
Она не встала из-за стола. Лишь медленно, с каким-то внутренним трепетом, отодвинула в сторону ноутбук, словно отодвигала ширму, за которой скрывалось нечто подлинное. Ее мир сузился до квадрата стола, залитого желтым светом лампы. В центре этого мира лежал он. Дневник.
Ее пальцы, все еще помнящие гладкий, бездушный пластик клавиатуры, теперь коснулись шероховатой, теплой кожи переплета. Это было как перейти с искусственного дыхания на настоящее. Она провела ладонью по обложке, ощущая каждую трещинку, каждый рубец, оставленный временем. Затем, с замиранием сердца, открыла его.
Тихий, бархатный шелест страниц наполнил комнату. Сухой, библиотечный запах, который она уловила на рынке, теперь был гуще, интимнее. К нему примешивалась едва уловимая терпкая нота застарелых чернил и что-то еще, неуловимо пряное, как забытые между страниц сухие цветы.
Она решила не начинать с первой страницы. Это казалось неправильным, слишком формальным. Этот поток сознания не предполагал линейного чтения. Она открыла его наугад, где-то в середине, и погрузилась.
Почерк. Это было первое, что ее зацепило. Он был живым. Неровный, летящий, с острыми, как шипы, буквами «т» и «д», с петлями «у» и «д», уходящими глубоко под строку. Нажим пера был неравномерным: некоторые слова были едва нацарапаны, другие – вдавлены в бумагу с такой силой, что на обратной стороне страницы проступал рельеф. Это была кардиограмма души, а не просто текст.
И она начала читать.
Это не было повествованием. Это были осколки. Обрывки мыслей, зарисовки снов, яростные монологи, обращенные к невидимой «ей».
«…видел сегодня, как ты смеялась с другим. У твоего смеха цвет солнца на лезвии ножа. Хотелось подойти и перерезать ему горло этим светом…»
Вера вздрогнула. Она перелистнула несколько страниц.
«Луна сегодня – дырка в черном бархате, прожженная сигаретой ангела. Я смотрю на нее и думаю, что пустота тоже может быть красивой. Но твоя пустота, та, что осталась после тебя, она беззвездна».
Снова перелистнула.
«Снова тот же сон. Коридор без конца, и все двери открываются внутрь. Я знаю, что за одной из них – ты. Но если я открою не ту, все остальные исчезнут навсегда. Я так и стою в этом коридоре, Вера. Уже который год».
Вера замерла. Сердце сделало оглушительный скачок и замерло.
Вера.
Ее имя.
Она уставилась на слово, выведенное чужой рукой, чужими чернилами, много лет назад. Это не могло быть правдой. Совпадение. Глупое, нелепое совпадение. В мире миллионы женщин с таким именем.
Но это знание не успокаивало. Она снова и снова перечитывала строчку, ее пальцы холодели. Это был не просто дневник. Это было письмо в бутылке, которое, проделав путь через океан времени, выбросило точно к ее ногам.
Она читала дальше, уже не как исследователь, а как соучастник. Она забыла о времени, о стынущем в кружке кофе, о собственном дыхании. Мир за окнами ее квартиры перестал существовать. Был только голос со страниц – страстный, одержимый, безумный. И он обращался к ней.
Слова на страницах не были чужими. Они были странным, кривым зеркалом, в котором Вера, к своему ужасу, узнавала собственные, самые потаенные черты. Каждая жалоба на одиночество, каждый выплеск ярости на безликий мир, каждая строка о творческом бессилии – все это отдавалось в ней глухим, узнаваемым эхом. Словно автор не просто писал для себя, а вел с ней диалог через десятилетия. Будто он знал ее, эту Веру, сидящую сейчас в заваленной хламом квартире в футуристически-готическом Фальтико. Она была адресатом этих записок, заблудившимся во времени.
Она продолжила свое исследование, теперь уже более осторожно, как сапер на минном поле. Ее пальцы наткнулись на утолщение. Несколько листов в самой середине книги были намертво склеены по внешнему краю, образуя плотный, монолитный блок. Что-то было пролито на них давным-давно – клей, или, может, воск. Вера подцепила край верхнего листа ногтем и попыталась аккуратно потянуть. Бумага не поддалась. Она потянула чуть сильнее, и послышался тихий, сухой треск – звук рвущейся ткани времени. По краю листа побежала белая, волокнистая рана. Вера тут же отпустила. Нет. Так нельзя. Тайны этого дневника не хотели, чтобы их брали силой. Она оставила эту загадку на потом.
Листая дальше, она нашла другие аномалии. Целые страницы, где текст был стерт. Не зачеркнут, а именно стерт – с усилием, с остервенением, так что на плотной бумаге остались лишь серые, грязные разводы и углубления от пера, призрачные следы погребенных слов. Под светом лампы, наклонив дневник под определенным углом, можно было различить отдельные буквы, но не более. Еще одна запертая комната в этом доме из бумаги. Она решила, что позже можно будет попробовать прочитать это, может, с помощью хитрого освещения или техники прорисовки.
Но все эти загадки отступили на второй план, когда ее взгляд выцепил еще одну фразу. Она была написана не так яростно, как та, первая, что она увидела на рынке. Эта была спокойнее, более взвешенной и оттого еще более пугающей в своей уверенности.
«только я могу вывести её из этого тупика».
Вера застыла, перечитывая строку снова и снова. Тупик. Слово было холодным и острым. Оно описывало ее жизнь с исчерпывающей, безжалостной точностью. Ее карьера. Ее квартира. Ее вымученный роман о вампирах. Все это было одним большим, серым тупиком.
Это он про книги? – мысль была нелепой, защитной реакцией. – Брось, Вера. Как он мог писать это тебе?
Она закрыла глаза, потерла виски. Логика кричала, что это совпадение. Простое, дурацкое совпадение. Мир полон отчаявшихся женщин и самонадеянных мужчин, уверенных, что они могут их спасти. Это универсальный сюжет.
Но почему? Почему оно настолько точное? Это не было похоже на случайность. Это было похоже на диагноз, поставленный много лет назад и доставленный ей с курьерской точностью. Словно кто-то знал, что именно в этот вечер, именно в этом состоянии, она прочтет эти слова. И это пугало гораздо сильнее, чем любые склеенные страницы и стертые строки.
Пальцы Веры, ставшие неестественно холодными, перевернули еще одну страницу. Шорох был хрупким, как треск крыла мотылька, пойманного в паутину. Она уже не просто читала; она вдыхала сухой черный яд чернил, позволяя ему растекаться по венам. Каждая новая фраза была не информацией, а инъекцией чужой, застарелой эмоции.
«если бы она видела меня так же, как я вижу её»
Эта строка была написана мелко, почти застенчиво, забившись в самый угол страницы, словно автор сам стыдился своей мысли. Он невидимка? Призрак с биноклем, застывший у окна напротив? Вера невольно бросила взгляд на свое собственное окно. Оно было черным, бездонным, и в его глубине, как в темной воде, отражалась лишь ее собственная фигура, склонившаяся над столом под кругом желтого света. Ей на мгновение стало холодно, по спине пробежала колючая волна. Это было чувство не столько страха, сколько узнавания. Власть смотрящего, остающегося невидимым, – разве не в этом суть ее ремесла? Разве не она сама была бесплотным соглядатаем, подсматривающим за выдуманными жизнями? Он был ее отражением, только вывернутым наизнанку.
Она перелистнула еще один лист.
«я вздыхаю по каждому твоему движению»
А он романтик. Или маньяк. Или и то, и другое сразу. Эта фраза была пропитана такой густой, почти удушающей нежностью, что Вере стало не по себе. Это не было абстрактным восхищением. Это была тотальная, микроскопическая фиксация. Он вздыхал не по ее улыбке или походке, а по каждому движению. По тому, как она поправляет выбившуюся прядь волос. Как подносит кружку к губам. Как ее пальцы замирают над клавиатурой.
Романтик? Или коллекционер мгновений? Человек, который не живет своей жизнью, а питается чужой, консервируя ее в словах. Он превращал ее жизнь в гербарий, засушивая каждое мимолетное движение между страницами своего дневника. И Вера, читая это, ощущала себя пойманной бабочкой, пришпиленной к бархату его внимания. Это было и лестно, и невыносимо жутко. Это было то самое всепоглощающее внимание, которого она так жаждала от безликих судей на конкурсах, но в такой концентрированной, интимной форме оно оказалось ядом.
Она продолжала погружаться, переходя от обрывка к обрывку. Каждая страница была новой комнатой в его разуме, и в каждой комнате висели ее портреты – написанные словами, сотканные из его одержимости. Она была не читателем. Она была экспонатом.
Она перевернула еще одну страницу. Почерк здесь был ровнее, усталее, словно автор писал это после долгого, безрезультатного дня наблюдений.
«она не видит, я в глубокой печали по этому поводу»
Простая, почти детская жалоба. Но от нее веяло бездонной тоской. Это была печаль бога, который создал идеальный мир, но забыл создать для него зрителя. Это была скорбь призрака, который отчаянно пытается коснуться живого, но его пальцы проходят сквозь плоть, не оставляя следа. Вера почувствовала укол странного, неуместного сочувствия.
Но следующая строка мгновенно убила эту эмоцию, заменив ее холодным, липким ужасом.
«я слышу её мысли, она устала»
Все. Это была точка невозврата. Одно дело – наблюдать. Другое – претендовать на знание того, что происходит внутри. Это было вторжением самого высокого уровня, взломом последнего бастиона – ее черепной коробки. «Она устала». Два слова, которые описывали ее состояние с предельной, унизительной точностью. Она не просто устала. Она была выпотрошена усталостью. И он, кем бы он ни был, это знал.
И на той же странице, чуть ниже, как контрольный выстрел, снова повторялась та самая мантра, выведенная с новой, отчаянной силой.
«только я мог тебя спасти»
Хлопок.
Резкий, глухой звук. Вера захлопнула дневник с такой силой, будто пыталась раздавить ядовитое насекомое. Ее пальцы дрожали. Тишина в комнате стала густой, звенящей, наполненной невысказанными словами со страниц. Книга лежала на столе, снова молчаливая, снова просто предмет. Но теперь Вера знала, что это ложь. Это был не предмет. Это был ящик Пандоры, и она только что заглянула внутрь.
Нужен шум. Нужны чужие, глупые голоса. Нужна яркая, безмозглая картинка, которая выжжет из ее головы этот вкрадчивый шепот.
Она схватила пульт и включила экран на стене. Тьма сменилась взрывом цвета и звука. Какое-то реалити-шоу. Мускулистые мужчины и женщины в яркой спортивной форме, перемазанные грязью, визжа и крича, карабкались по гигантской наклонной стене, срывались в бассейн с мутной водой. На фоне играла бодрая, идиотская музыка. Ведущий что-то орал про командный дух и волю к победе.
Весело. Ярко. Глупо. Идеально.
Вера откинулась на спинку стула, заставляя себя смотреть на экран, на бессмысленную суету тел. Но это получалось с трудом. Картинка была плоской, двухмерной. Она не могла заглушить трехмерный, объемный ужас, который поселился у нее в голове. Мысли роились, как встревоженные пчелы. Совпадение? Бред? Начало безумия? Кто он? Откуда он знал? И самый главный, самый страшный вопрос, который она боялась себе задать: а что, если он прав? Что, если он действительно единственный, кто мог ее спасти?
Она смотрела на радостные, перемазанные грязью лица на экране и чувствовала себя бесконечно далекой от них. Они преодолевали свои препятствия. А ее главное препятствие лежало в метре от нее на столе. И оно смотрело на нее, даже будучи закрытым.
Экран мельтешил бессмысленной яркостью, но Вера смотрела сквозь него. Голоса ведущего и визги участников были белым шумом, тонкой бумажной ширмой, которая едва скрывала гулкую пустоту, оставленную дневником. Ее мозг, приученный годами к поиску сюжетов, работал вхолостую, пытаясь переварить, осмыслить, классифицировать тот первобытный ужас, который она испытала.
И вдруг, посреди этого внутреннего хаоса, сработал защитный механизм. Профессиональный инстинкт, как хищное растение, медленно разворачивал свои лепестки вокруг этого страха, чтобы поглотить его, сделать своим.
А что, если?..
Мысль была слабой, но настойчивой. Она пробивалась сквозь толщу паники, как росток сквозь асфальт.
Что, если это не с ней происходит? Что, если это происходит с Изабеллой?
Вере стало почти физически легче дышать. Это был гениальный ход, спасительный самообман. Она могла взять этот яд, этот концентрат чужой одержимости, и впрыснуть его в вены своего анемичного, умирающего романа. Изабелла. Неловкая, скучная Изабелла, которая так предсказуемо влюблялась в Аларика. Пусть она, гуляя по антикварной лавке, найдет этот дневник. Пусть она, так же, как и Вера, откроет его и прочтет эти строки.
И тогда… тогда все менялось.
Плоская, как сцена в дешевом театре, история обретала третье измерение. Измерение страха.
Придется вводить любовный треугольник. Но не тот, избитый, где два красавца-вампира борются за сердце смертной. Нет. Это будет борьба иного толка. С одной стороны – Аларик, понятный в своей трагической позе, безопасный в своей предсказуемости. А с другой… с другой будет он. Голос из дневника. Еще один вампир, но совершенно другого порядка. Невидимый. Неизвестный. Тот, кто не позирует в лунном свете, а прячется в тенях ее сознания. Тот, кто не дарит роз, а пишет: «я слышу твои мысли, она устала».
Этот второй персонаж, этот призрак, уже был живее и реальнее ее Аларика. Он был опасен. Он был непредсказуем. Он был всем тем, о чем Вера на самом деле хотела писать.
Кто знает, может, Изабелла в конце и не останется с глянцевым Алариком. Может, она, ведомая этим темным, вкрадчивым голосом, уйдет ко второму, к тени. Или, может, она сойдет с ума, так и не поняв, был ли он реален.
Вера еще не придумывала концовки. И это было самое пьянящее. Впервые за многие месяцы ее история перестала быть прямой, как рельсы, дорогой к предсказуемому финалу. Она превратилась в лабиринт. Она ожила.
Страх никуда не делся. Он все еще сидел холодной жабой в солнечном сплетении. Но теперь к нему примешивался азарт. Азарт творца, который нашел идеальный материал. Она посмотрела на закрытый дневник на столе. Это больше не было проклятием. Это стало ее вдохновением. Ее главным оружием.
Глава 3. Свежесть
Реалити-шоу на стене продолжало свой бессмысленный марафон, но Вера его больше не видела. Шум превратился в фон, в далекий, неразборчивый гул прибоя. В ее голове наступила звенящая, напряженная тишина, какая бывает перед грозой. А затем ударила молния. Идея.
Пальцы, еще несколько минут назад безвольно лежавшие на коленях, теперь нашли клавиатуру. Они не стучали. Они двигались с хищной, новообретенной грацией. Безжалостная синяя полоса выделения прошла по последним абзацам – по кирпичной стене, по томным взглядам Аларика, по неловкому трепету Изабеллы. Delete. Мертвые слова исчезли, оставив после себя стерильную, девственную белизну страницы.
И Вера начала писать.
Теперь слова не нужно было вымучивать, выдавливать из себя по капле. Они лились сами – темным, густым, вязким потоком. Она не придумывала. Она транслировала. Она взяла свой собственный, еще свежий, липкий страх и осторожно, как бесценный и опасный реактив, перелила его в свою героиню.
«Изабелла зашла в антикварную лавку не в поисках чего-то конкретного, а в поисках тишины. Воздух здесь был густым, как сироп, настоянным на пыли, полироли и сладковатом запахе тлена, который всегда сопровождает вещи, пережившие своих хозяев. И среди гор потемневшего серебра и треснувшего фарфора она увидела его. Дневник в переплете из кожи цвета горького шоколада, без единого опознавательного знака. Он не звал ее, он молчал, и именно это молчание заставило ее протянуть руку…»
Вера писала, и ее пальцы летали над клавишами, словно она передавала срочную шифровку. Она описывала, как пальцы Изабеллы ощущают тепло старой кожи, как она вдыхает запах выцветших чернил, как ее взгляд тонет в убористых, летящих строках. Она отдала Изабелле все: свой поход на блошиный рынок, свою находку, свое первое потрясение.
«…она уже хотела закрыть его, отложить, но одна фраза, выведенная на странице с яростным, почти отчаянным нажимом, вцепилась в ее зрение и не отпускала. Четыре слова. Вердикт. Эпитафия. Обещание. ”Только я мог тебя спасти”».
Теперь Изабелла была не просто функцией, не приложением к главному герою-вампиру. Она ожила. В ней появилась глубина, трещина, в которую читатель мог заглянуть. Ее страхи больше не были условностью жанра. Они стали настоящими, потому что Вера питала их своим собственным, подлинным ужасом.
И наблюдать за ней стало интересно. Как она, раздираемая между притяжением к понятному, почти ручному монстру Аларику и этим новым, анонимным, всевидящим голосом из прошлого, будет делать свой выбор? Ее метания, ее паранойя, ее сомнения – все это обрело плоть и кровь. Вера смотрела на бегущие по экрану строчки и впервые за долгое время чувствовала не отвращение, а пьянящую, темную радость. Она нашла способ приручить своего демона. Она заставила его работать на себя.
Часы на экране монитора безжалостно показывали 01:47. Расписание, ее спасительный ритуал, трещало по швам. Согласно ему, Вера уже два часа как должна была находиться в объятиях снов – или, по крайней мере, лежать в кровати, имитируя попытку уснуть. Ее тело, привыкшее к дисциплине, подавало сигналы: веки налились свинцом, в плечах поселилась тупая, ноющая боль. Но мозг, разогнанный до предела творческим азартом и дозой первобытного страха, отказывался подчиняться.
Она встала из-за стола и прошла на кухню, двигаясь в полумраке на автопилоте. Заварила чай – не бодрящий, а травяной, с запахом ромашки и мелиссы. Это была слабая попытка обмануть организм, сделать вид, что она готовится ко сну. Вернувшись с дымящейся кружкой, она села за стол, но ноутбук остался нетронутым. Ее взгляд, как у загипнотизированного кролика, был прикован к дневнику.
Влечение. Это было единственное слово, которое точно описывало ее состояние. Оно было сильнее усталости, сильнее логики, сильнее инстинкта самосохранения. Дневник лежал на столе, манил своей тайной, обещал новые откровения, новые порции этого сладкого яда.
Она снова открыла его.
На этот раз она решила быть методичнее. Она начала перечитывать уже знакомые страницы, ища связи, закономерности. Тексты были хаотичны, но в них прослеживалась болезненная логика одержимости. Автор то обращался к своей «Вере» напрямую, то писал о ней в третьем лице. То восхищался ею, как божеством, то злился на ее слепоту и равнодушие.
«Она ходит по одним и тем же улицам, но видит лишь серый камень. Она не замечает, что горгулья на доме напротив плачет ржавчиной, когда идет дождь. Она не слышит, как рельсы магнитной дороги поют свою тоскливую песню по ночам. Как можно столько видеть и так мало замечать?»
Вера замерла. Горгулья. На доме напротив. Она медленно подняла голову и посмотрела в темное окно. Она жила в этой квартире три года и ни разу не обращала внимания на то, что у статуи на здании напротив из глазниц действительно стекают две ржавые полосы. Она знала это, но не видела. А он – видел.
Ее пальцы похолодели. Это уже не было просто совпадением имен или настроений. Это была конкретика. Пугающая, неопровержимая. Он писал не об абстрактной женщине. Он писал о ней, Вере Астаховой, живущей в этой самой квартире. Но как? Когда?
Она лихорадочно перелистывала страницы, ища дату, любую зацепку. Бумага была старой, чернила – выцветшими. Это не могло быть написано вчера. Этой книге десятки лет.
Ее взгляд упал на короткую, почти бессвязную запись в самом низу страницы.
«Снова видел Павла. Улыбается своей лживой улыбкой. Он думает, она – его трофей. Он ничего не понимает. Она не трофей. Она – приговор. И для него, и для меня».
Павел.
Имя ударило ее наотмашь, выбив воздух из легких. Павел. Ее бывший. Издатель, чьи манипуляции и обесценивание ее творчества чуть не уничтожили ее. Имя, которое она старалась забыть, похоронить под тоннами безразличия.
Это было невозможно. Этого просто не могло быть. Две случайности – это еще можно было списать на бред воспаленного воображения. Но три? Вера, Павел, горгулья… Это была уже система. Матрица, в которую она была вписана задолго до того, как взяла эту книгу в руки.
Она смотрела на имя «Павел», написанное чужой, мертвой рукой, и чувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Влечение к дневнику сменилось животным, первобытным ужасом. Она больше не разбирала чужую историю. Она читала пролог к своей собственной. И он ей совсем не нравился.
– Откуда ты, мать твою, всё это знаешь?!
Слова вырвались из нее не криком, а сдавленным, яростным шепотом, который был страшнее любого крика. Он прорезал вязкую тишину комнаты, как скальпель. Ее рука, будто живущая своей жизнью, метнулась вперед и с силой оттолкнула дневник. Он не улетел, а тяжело, с глухим шорохом, проскользнул по деревянной поверхности стола и врезался в основание стопки книг. Жест изгнания. Отчуждения.