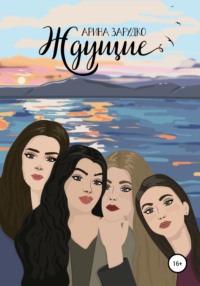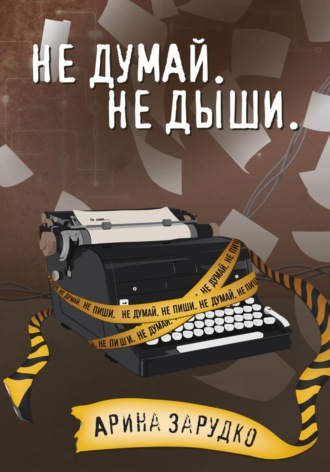
Полная версия
Не думай. Не дыши
– Мистер Андерсон весьма огорчится. Он самолично выбирал кадры для своихСМИ.
– Мы не писали для правительства. Мы всегда были независимым изданием.
– Все меняется, – ехидно усмехнулся индюк. – Теперь мы собираем лучших игроков в нашей сфере, чтобы создать единый фронт, если можно так выразиться. Журналисты, которые будут на правильной стороне.
– А что есть правильная сторона? – страх уступал место гневу, понемногу я стала ощущать тошноту.
– Та, что платит вам гонорар и говорит, о чем писать. Сторона, правящая миром. Неужели вы, известный журналист, не знаете новостной повестки? Вы меня удивляете.
– Я знаю повестку, поэтому и отказываюсь.
Я прекрасно понимала, что рискую всем. Учитывая нынешнюю обстановку, если ты не за тех, кто у власти, ты против них. А стало быть, если ты против, тебя следует уничтожить. Но, благо, к государственной машине с помощью манипуляций и угроз присоединилось достаточно испуганных писателей и репортеров. Больше не было смысла бороться за меня с выступающим на лбу потом. Одним писакой больше, одним меньше. Но все же стереть меня в порошок, дабы не высовывалась – это священное право, которым новое правительство не погнушалось.
– Что ж, это был ваш последний шанс, чтобы писать.
Я вскинула глаза на это ничтожество, открыто мне угрожающее.
– Что-о… – не поняла я.
– Вы не сможете писать. Это запрещается. Если вы не пишете для наших нужд, вы не пишете вовсе. Такое правило, – он развел руками, мне хотелось его убить, от этой мысли затошнило пуще прежнего. – Мы изымаем ваш компьютер и все писчие принадлежности. Сегодня у вас будет произведен обыск. Я предупреждаю из уважения к вашей работе.
– Как же вы будете…
– Контролировать ситуацию? – закончил он за меня. – Все очень просто, мисс Сильвер. Все, что нужно, есть в вашей голове. – Он стукнул по виску указательным и средним пальцами. – Но система пока недостаточно налажена. Мы не сможем узнать все. Пока. Но ваши тексты мы сумеем обнародовать, если вы вздумаете их каким-то образом опубликовать. Даже под псевдонимом. Лучше даже не пытайтесь. – Последнюю фразу он произнес с интонацией, с которой обычно обращаются к детям.
Я опустила голову, ее словно сжали плоскогубцами.
– Это жестоко для человека, любящего свое дело, – практически шепотом проговорила я, представив на мгновения, что я больше не смогу ничего написать.
Мне стало плохо физически. То ли это чип, то ли я настоящая. Тогда я не могла отделить ощущения друг от друга, они слипались в единую несуразную массу, липкую субстанцию из обрывочных чувств, осознаний и страхов.
– Мы и рады вас поощрить, – снова этот елейный тон, – но вы не даете нам ни единого шанса.
– Я все поняла. – Теперь я явственно начинала идентифицировать свои чувства: я полыхала изнутри, словно раскаленная лава.
Вот тот самый раз меня ударило током с такой силой, что мне казалось, будто я лишилась ног. Меня сшибло волной, исходящей из моего собственного тела. Мое тело предало меня.
Я вскрикнула. Мне никто не помог. Солдафоны глыбами стояли у дверей, подпирая проем. Даже их взгляды меня не коснулись – наверно, их парализовало и без чипа.
– Вы свободны. – На этот раз тон главного редактора был не заискивающим, а алюминиевым.
Я очухалась, но в глазах все еще двоилось, и дико болела голова. Он сделал вид, что ничего не произошло, но что-то зафиксировал в своих бумажонках.
– Звучит как издевка, вам не кажется? – смело бросила я. – Хотя теперь все перевернулось с ног на голову. Каждое понятие. Каждый вдох… все теперь ощущается иначе.
– Это вы верно подметили, мисс Сильвер. Все иначе. И на этом поле вы еще можете решить за какую команду играть.
Я не удостоила его ответом.
Вот так я отказалась от того, что любила больше всего на свете. Уж лучше не писать вовсе, чем превратиться в продажное перо. Это не мой путь. Ворожить над словами в потемках, словно преступник, рискуя головой, тоже не смахивает на поступок зрелого человека. Это безответственно и глупо. Но иначе я не могу. Уж лучше буду писать для себя под страхом смерти, нежели стану марионеткой в руках этих извращенцев.
Но от благородства мало проку, когда в холодильнике мышь повесилась, так ведь? Лихая бравада писателя с принципами выглядит изящно и вдохновляюще только тогда, когда ты им не являешься. В кино это смотрится круто. В жизни – крайне инфантильно: «умру с голоду, но не стану есть из вашей тарелки»!
Моих сбережений могло хватить на первое время, так я подумала. Пока не узнала, что все мои счета заблокированы, и ничего с этим сделать нельзя. Это был ужасный период, сотканный из немого отчаяния, которое даже невозможно было выплеснуть наружу. Бессилие душило меня изнутри. В какой-то момент мне начало казаться, что я схожу с ума – все было каким-то поломанным, фантасмагоричным, пластиковым. Неужели эта та реальность, которую я заслужила? Вопросов было слишком много, а сил бороться – все меньше. Если бы не отец и друзья, я бы точно спятила.
– Ты выпутаешься из этого ада, Эсти, даже не вздумай опускать руки, – говорил папа, когда навещал меня, принося пакеты с продуктами и оставляя новенькие купюры на столе, будто невзначай.
– Впервые в жизни я не знаю, как быть. Сил хватает только на то, чтобы контролировать свои мысли, которые сжирают меня. Уже три месяца я бьюсь как рыба об лед. Все без толку…
– Послушай, – он присел напротив меня, сцепив руки замком, – чинить препятствия слишком долго они не смогут. Уж очень много важных вопросов им предстоит решить. Поважнее мести журналистке, отказавшейся присягнуть им в верности.
– Я уже полы мыть готова.
– Брось эту нелепицу. Ты талантливый автор и умнейшая женщина. Как насчет преподавания?
– Не знаю, па. Какой из меня учитель…
– Раз умеешь писать, сумеешь и рассказать.
– Это не одно и то же, – с добродушной улыбкой отметила я.
– Попробуй сходить в свой институт, мало ли. – Папа подмигнул, отпив кофе из кружки.
Я и раньше размышляла об этом, но так и не решалась пойти на собеседование в свою Alma mater. Все то время я пыталась просто перебиться на любой работе, за которую платят – но дыхание мне перекрыли основательно. Конечно, и в институте наверняка обо мне пошел слушок. Но отец был прав. Я подождала еще месяц и отправилась к ректору Стивенсону.
Он был старше меня на каких-нибудь семь лет. Невероятно обаятельный и образованный мужчина, которого я знала как преподавателя английского во времена своей учебы. Теперь на эту должность я предлагала свою кандидатуру.
– Эстер, я так тебе рад! – его лицо светилось неподдельным восторгом, он как раз находился в поисках преподавателя. Удача мне улыбнулась? – Я сам тебя учил, будучи зеленым и убежденным консерватором в литературе.
– Запрещенное слово на букву «л», Фред.
Он поник, опустил голову, перевел дыхание – явно сосредотачивая мысли, чтобы чип не сработал по назначению.
– Что ж… этого предмета сейчас нет. Только английский. Есть ворох новых требований. Мораторий на все печатное. Обновленная программа по обновленной системе образования, – Фред бледнел на глазах, эта тема очень его ранила, но он слишком любил наш институт, чтобы уйти.
– Я готова. Если, конечно, я подхожу, – я нервно подергала себя за манжеты белой рубашки.
– Ты прекрасно подходишь. Возьмешь первые два курса. Я все согласую и отправлю тебе письмо, идет?
Я воодушевленно кивнула.
– Фредди, почему ты остался? – спросила я вдруг, уже собравшись уходить.
Он слегка ослабил галстук. Лицо исказилось болью.
– Потому что мне больше ничего не остается, Эстер. Это мой дом. Я не могу его бросить.
Я это знала, но мне хотелось глубже постичь природу человеческих поступков. Я решила отказаться от своего дела из знака протеста. Фредди не смог отказаться из любви и чувства долга.
Мою кандидатуру рассматривала специальная комиссия, словно я устраивалась на работу в ЦРУ! Но его тоже упразднили, так что, наверное, порядок теперь для всего один. Или только для таких бунтарей, как я? Я уже было смирилась, что мне суждена участь безработной и отброшенной обществом на обочину социальной реализации женщины. Видимо, Фред отстоял меня. Или же Андерсон, наше новое всевидящее око, Большой Брат и Люцифер в одном лице, наконец даровал мне индульгенцию. В любом случае спустя полгода после моего фееричного ухода из мира журналистики я вступила на новую должность, погрузившись в иной мир. Этот мир был мне не чужд. Здесь так же были буквы, слова, правила. Я осталась едина с языком. И это даровало мне смысл. В то время как все остальное его нещадно, жадно и истово отбирало.
3
Я не представляла, как преподавать язык, который бежал у меня по венам, но стал настолько иным при нынешней власти. Мы были окружены рамками. Приходилось умещаться в эту окружность, начерченную чьей-то авторитарной рукой.
На моем рабочем планшете были все необходимые методички, по которым следовало вести занятия. Меня это не сильно вдохновляло, но все лучше, чем сидеть без работы, будучи погруженной в бездну апатии и самобичевания. Я понимала, что нужно чем-то жертвовать, чтобы выжить. Жертвовать пришлось многим, но так было безопаснее. Я и без того ходила по тонкому льду. Он норовил вот-вот пойти трещинами под моими стопами, а захлебнуться ледяной водой я была не готова.
Кого мне по-настоящему жаль, так это студентов. Бедные души, лишенные возможности постичь некогда важный для каждого культурный код. Как бы мне хотелось подарить им любовь к великому: к Гомеру, Данте, Шекспиру. Возможно, когда-нибудь они все-таки узнают эти имена, познакомятся с их шедеврами. А возможно, лет через десять в мире вовсе не останется книг. Эта мысль отзывалась во мне тупой болью. Мир без книг обречен. Здесь нечего добавить или убавить.
Сегодня я должна рассказывать о придаточных. На моих лекциях обычно аншлаг – учитывая, что многим девочкам сейчас запрещают получать образования, как во времена средних веков, я радуюсь их количеству в аудитории.
– Итак, вы ознакомились с правилами, которые мы разбирали позавчера? – Пока студенты оживлялись, я пробегала глазами список присутствующих: на каждое имя можно нажать, чтобы увидеть подробное досье с фотографиями и нужными сведениями о студенте. Жуть невообразимая. – Кто помнит, о чем шла речь?
Фелисити Джонс поднимает руку, чтобы ответить. Я кивком приглашаю ее поделиться темой предыдущей лекции. Кажется, в аудитории меньше людей, чем обычно. Я еще раз сверяюсь со списком.
– Спасибо, Фелисити. Все верно, мы говорили о сложных предложениях и их синтаксической роли. Сегодня у нас недостает шестнадцати человек… – больше для себя подтверждаю, что подсчеты верны.
– Многим запретили посещать ваши лекции, мисс Сильвер, – буднично бросает Энди Пинчер. – Ну, типа, грамматика – бесполезная наука, а ваши занятия толкают нас к писанине и прочему. – Он как бы извиняясь пожал плечами.
Я сглотнула ком в горле. Сняла очки и убрала волосы за уши с обеих сторон. Врать, дабы спастись или быть честной ради них самих и той, кем я когда-то была? Страх порой сковывает покрепче цепей. Но слишком долго бояться невозможно. И в конце концов меня всегда в большей мере страшила сама концепция страха.
– Я понимаю. Каждый из вас может сделать выводы, исходя из того, что говорят вам родители, другие преподаватели, люди с экранов планшета. Но в конечном счете имеет значение лишь то, что думаете вы сами. Насколько вы готовы быть собой в текущих обстоятельствах. А быть собой значит… уметь принимать решения, опираясь на свои убеждения и только. – Я принялась ходить взад-вперед по длинной аудитории. – Из этого следует, что вы можете послушать кого-то, кто якобы считает лекции по грамматике английского языка (о, боже!) слишком революционными, чтобы их посещать. Ну да, я забыла об уничтожающей власти фразеологизмов… – Последовали смешки. – А можете научиться тому, что поможет вам развить языковое чутье. Сейчас нам нет необходимости писать грамотно. Если уж совсем начистоту – нет необходимости писать вовсе. Но если вдруг у вас есть к этому склонность, я могу лишь разделить с вами восторг от этого непередаваемого чувства предвкушения: когда слова готовы вырваться наружу несдерживаемым потоком. Но чтобы уметь их связать, нужно это пресловутое чутье. Вы должны понимать язык. И чувствовать его.
– Но писать запрещено. Разве что в государственных интересах, – справедливо отметила Бриджит Уэст.
– Увы, это так, – вздохнула я. – Но времена меняются. Когда-то было сложно вообразить, что женщина может издать книгу под своим именем. Мэри Энн Эванс публиковалась под псевдонимом Джордж Элиот, Аврору Дюпер признают под именем Жорж Санд, а «Джейн Эйр» якобы была написана Каррером Беллом, но мы-то знаем, чья рука создала мистера Рочестера.
Знали ли они на самом деле? Очень вряд ли. Я это понимала, но не могла остановиться. Рисковала ли я головой? Более чем когда-либо.
– Мне больно осознавать, что вы так обделены. Вы можете считать мои рассуждения слишком радикальными, но когда-то это было нормой. Странно. Ведь в каноничном понимании вещей радикальным становится что-то запретное, что-то, что не является нормой, а скорее представляет собой ее противоположность. В нашем же мире все верх тормашками: радикальным и запретным стала норма. – Я почувствовала учащенное сердцебиение. Вот сейчас… сейчас меня сшибет с ног разряд тока. Но удивительно. Ничего не происходило. Я просто разволновалась, но разум мой был чист и ясен как никогда. Чип молчал.
Я окинула взглядом лица, обращенные ко мне. Они внимали. Не осуждали и не возмущались, нет. Скорее, чувствовали себя еще более осиротевшими. В их глазах я нащупала понимание. Они заслужили лучшего мира, нормального обучения, а не черт знает чего.
– Простите. Я не могу лукавить с вами. Мне так… так жаль, так горько, что я не могу дать вам всего того, чем располагаю. Я хочу рассказать вам о языке и его возможностях, но разве есть в том прок, когда вы не можете читать вещи, что демонстрируют то, о чем я тут толкую?
– На черном рынке все еще можно раздобыть книги… – не глядя на меня произнес Гэри Болд, он всегда отличался особым прилежанием к учебе. От него я не ожидала услышать подобный намек, хотя как раз-таки следовало бы.
Как и предполагалось, большинство его однокурсников зашипели на него:
– Ты вообще в себе, Болд? Что ты несешь?
– Ты знаешь, что даже мысль об этом может тебя парализовать?
– У нас еще нет чипов, идиотка.
– Все равно, надо быть готовыми!
Я заметила, как Гэри побледнел, казалось, он сейчас рухнет. Он заметил мое беспокойство – это читалось во взгляде:
– Не беспокойтесь, мисс, я уже учусь самоконтролю. Это видно по напряжению в лице, – улыбнулся Гэри.
– Ты стараешься стереть мысль? – повернулась к нему Фелисити. – Это же невозможно. Ты уже об этом подумал.
– Я просто отпускаю мысль. Не хочу через год страдать от разрядов тока. Но чего я хочу по-настоящему, так это читать.
Снова охи и вздохи.
– Это невозможно, Гэри. Ты можешь читать то, что предписано. Большего я не могу предложить. Я так же сильно недоумеваю, но не могу ничего сделать.
– А кто тогда может? Кто защитит нас от этого дебильного порядка? Через пару лет нам исполнится 21, и у нас больше не будет возможности. Пожалуйста, помогите нам хотя бы попытаться.
Даже те, кто не разделял энтузиазм Гэри, глядели на меня с мольбой. Неиспорченные души… Головы, не тронутые микросхемами. Они пока еще свободны, но так ли это? Все равно они связаны по рукам и ногам, они живут в мире, в котором практически не осталось света. Позволить им читать – звучит как утопия. Но кто я такая, чтобы лишать их единственно возможного лучика, пробивающегося сквозь тьму?
– Что ты предлагаешь? – вздохнула я, стараясь переключить эту мысль в своей голове на что-то иное – то, что не вызовет импульс чипа.
– Мы попробуем найти книги. Будем читать по очереди, а вы расскажете о них. Вы же умеете держать мысли в узде, я это точно знаю. Иначе вы бы здесь не стояли после всего сказанного.
– Ты подвергаешь мисс Сильвер опасности, Болд, – огрызнулся Пинчер. – И нас всех! А что, если нас застукают? Что тогда?
– Я готова рискнуть. – Моя реплика заставила даже саму тишину в аудитории завибрировать в такт моего взволнованного дыхания. – Эта затея не для трусов. Но для тех, кто хочет узнать кое-что по-настоящему важное. Без книг, без искусства, без размышлений наши души пусты. Все это питает нас, как дождь питает землю. И если я могу вложить в вас хотя бы крошечную толику того прекрасного, что некогда было частью моей жизни, я готова. Кто бы мог подумать, что тяга к знаниям будет наказуема… но это наш выбор. И вы сделаете его добровольно. Я дам вам время. А пока вернемся к синтаксису.
Что, черт возьми, я придумала? Во что я ввязалась и зачем? После лекции я отдышалась, успокоила мозг, ибо ощутила в голове легкое покалывание – дурной знак. Перевозбуждение может стать катализатором срабатывания чипа.
Первым моим порывом было сохранить все в тайне. Но это совершенно не вязалось со всей это мудреной концепцией – не могла же я отправиться средь бела дня на черный рынок, закупиться книгами и как ни в чем не бывало заявиться в кампус? Бред. Все нужно было обмозговать. В голове я заменила образ книг антикварной посудой. Ну а что, не далеко ушли. Но одной мне точно не реализовать эту затею. Нужен кто-то со связями, но кто точно меня не сдаст. Самая идиотская мысль на свете – Фред. Прекрасно, я буду просить своего старинного друга и ректора разрешить нам со студентами заниматься запрещенкой. Воображаю, куда он меня пошлет с моими измышлениями. Но выбора не было. С Фредом я решила поговорить на следующий день, остальное следовало обдумать в заветные ночные часы.
4
Ночью я проснулась от кровавых всполохов за окном. Сотрясаясь в собственной кровати, словно в шхуне, качающейся на морских волнах, я не понимала: то ли это колышутся слои земли, то ли вернулся всадник апокалипсиса в лице войны.
Как выяснилось, все же второе.
Земля уже настолько пропиталась ненавистью, посеянной сильными мира сего, что от беспомощности она иссыхает, тлеет, превращаясь в отчужденный, онемевший постамент. Но в людях еще теплится что-то живое, по крайней мере, мне отчаянно хочется в это верить.
В нас все еще свежи воспоминания о восстании, поэтому мое тело, вспомнив те ощущения, начинает холодеть, трястись и теряться в бессловесном пространстве, где есть только мрак, сотканный из немой боли.
Сейчас ночь, и я могу бояться столько, сколько вздумается. Не то чтобы мне сильно хочется, но вряд ли мое истошное сердцебиение будет спрашивать разрешения. Когда я осознаю происходящее, слыша вой сирены, что эхом разносится по моим внутренностям, проникая в меня ревом умирающего животного, я трясущимися руками начинаю шарить в темноте. Найдя сенсорную кнопку, жму на нее, чтобы запустить планшет. С экрана Зельда нервически улыбаясь, будто изнутри ее щеки натянули на скрепки, пытается успокоить население. Затем в доме завопила сигнализация, распевая в унисон звукам сирены снаружи:
– Внимание, воздушная тревога. Сохраняйте спокойствие и незамедлительно пройдите в убежище. Возьмите вещи первой необходимости. Спустись на цокольный этаж и затем в укрытие – оно расположено ниже цокольного этажа по правую сторону от лифта. Там вы будете в безопасности. Внимание, воздушная тревога…
Когда я была маленькой, и началось восстание, все были научены опытом военных лет, и знали, что делать. Но у детей нет этой поколенческой памяти, связанной с попытками сохранить жизнь в подобных обстоятельствах. Каждый раз я просто цеплялась за маму, чтобы не потеряться в потоке несущихся в укрытие людей – обстрелы заставали всех за разными занятиями. Я стараюсь не вспоминать то время. Годы детства кровоточат, я перебинтовываю их, но рано или поздно бинты вновь пропитываются кровью…
Сейчас мое тело словно вспомнило, как это было тогда. Я «запускаю автопилот». Одеваюсь, рыскаю по квартире в поисках сумки, в которую засунула браслет с данными. В этом браслете все документы, вся моя личность как гражданина нового мира. С ужасом оглядываю комнату и понимаю, что не убрала блокнот с текстами. Судорожно сгребаю свои сокровища и прячу в положенное место – в подпол гардеробной.
Взрыв. Волна. В ушах гудит, словно кто-то засунул мою голову в набат и ударил по нему пару раз. Но это не столько от шума, сколько от мыслей. Их целый ворох. И главная из них – что, черт возьми, происходит? Неужели опять восстание? Нет. Этого не может быть. Допустить такое, значит, признать крах устоявшейся системы. Вся эта идеология полетит в тартары, стоит людям выказать протест. Но прошлое восстание закончилось катастрофой. Может ли быть иной путь у революции в технологичный век? Даже если сопротивление существует, в чем я очень сомневаюсь, их лидеров вычислят довольно быстро, и тогда чипы сделают свое грязное дело. Никому даже руки пачкать не придется. Фигурально, конечно.
Я не успеваю опомниться от первого взрыва и своих мыслей, как накатывает второй. Я бросаюсь на пол, закрываю голову руками. Буквально сдавливаю ее. Не могу пошевелиться, слепой страх парализует. Нужно встать, чтобы добраться до убежища, но я не могу. Не хватает воздуха, я чувствую, что тело будто мне не принадлежит. И только это пламя в области груди, как будто кто-то поджег мои легкие. Я задыхаюсь от этого дыма…
А перед глазами мама.
Я видела ее в последний раз в ту страшную ночь. Последнюю ночь перед тем, как очередное восстание подавили полностью. Бунтовщиков тогда казнили на площадях, памятуя о жестоких традициях Древнего Рима. Как будто мы откатились на несколько веков назад, когда не было ни Иисуса, ни морали. А что было? Только обесточивающая ненависть. От нее все внутренности зудели. Я была ребенком, но помню, как меня тошнило от запаха смерти, что ореолом окружал каждый метр города.
В ту ночь я окончательно повзрослела. Я поняла, что бог не может ничего сделать, сколько молитв ты к нему ни обращай. Что он попросту оглох или же махнул на нас рукой, увидев, во что превратилось человечество. Есть ли смысл его спасать? Мы стали язвенными ранами на теле этого мира. Но моя мама здесь не при чем. Она не была жестокой. Не творила зла. Она пела мне перед сном. Так за что же она несла ответ? Почему она платила своей жизнью за грехи других? Все порушилось тогда в моей голове.
Она, как обычно укладывала меня спать. Ее каштановые волосы были собраны на макушке, а пряди у лица упругими дугами обрамляли широкие скулы. Она устала, но не могла оставить меня без песни. Села по-турецки, закрыла глаза, и мелодия полилась из ее уст.
– Ты будешь просить петь тебе до самого поступления в колледж? – смеялась она, вставая с моей постели.
– Еще чего! До самой пенсии. Ты будешь жить со мной.
Мама рассмеялась своим звонким, раскатистым смехом – словно кто-то играл в третьей октаве импрессионистический этюд. Ласковый смех. Он напоминал мне вязаный шарф – я всегда могла укрыться им от бед. Но после той ночи мне нечем было укрыться.
– У тебя будет своя семья, Эсти. Ты вырастишь, получишь образование, встретишь любовь и будешь счастлива в своем доме. Тогда уже твои дети будут просить тебя петь. И твоя песня будет звонче моей. Вот увидишь.
Я провалилась в сон, но, как и сегодня, меня разбудили звуки взрывающегося воздуха. От них в ушах раздавался жуткий скрип – как будто старый отполированный ботинок запихивают в узкую коробку. Кажется, что он засел в голове навечно, но через несколько минут все проходит. Это была самая мощная атака за последние годы. Папа был в отъезде, а мама никогда не спала без него в их постели. Она ложилась в гостиной на кушетке после нескольких часов ночного чтения. Туда и прилетели осколки. Я не успела ничего сообразить – от взрывной волны часть нашего дома просто снесло. Вот почему я никогда больше не буду жить в частном доме. Детские страхи не всегда можно побороть.
Меня откопали на следующий день. И вместе со вкусом земли, пылью, копотью, ожогами, которые оставили следы на моем теле, в мою жизнь пришли кошмары. Чувство безопасности было бессовестно попрано. К черту все эти праведные революции и борьбу за справедливости, если они отнимают у детей родителей. Нет худа без добра, говорили они. Скажите это ребенку, который лишился матери. Конечно, я не думала о том, что мама не поможет мне выбрать платье для выпускного, не порадуется моим успехам, не прочтет мою первую статью – ее просто не будет рядом. Тогда я думала лишь о том, что она мне больше не споет. Она больше не рассмеется мне, а значит, не защитит своей любовью.
– Она всегда будет с нами, – говорил мне папа.
– Но ее нет, – упорствовала я.
– Она есть в тебе, Эсти. Я вижу ее в тебе.
– А я хочу видеть ее рядом. Почему она не легла со мной или не пошла в свою спальню? Она была бы жива, будь ты дома!