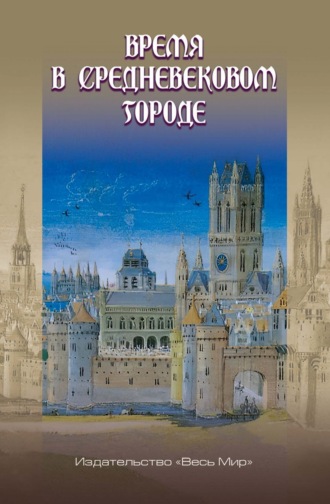
Полная версия
Время в средневековом городе
Отметим также, что во втором и третьем случае приводятся поздние названия церквей (например, церковь св. Арнульфа изначально была посвящена Св. Апостолам[36]), видимо, как более актуальные на момент появления маргиналий. Позднейшие комментаторы либо вовсе не знали оригинальных названий, либо, что более вероятно, не считали эту информацию ценной и полагали, что ею можно пренебречь ради решения других, куда более важных задач – существенного удревнения истории отдельных церквей, наиболее значимых для формирования городского сакрального ландшафта, с одной стороны, и напоминания о ключевых творцах этого ландшафта – с другой. В любом случае, перед нами еще одно свидетельство того, сколь специфическим образом в кругах каролингского клира функционировала живая историческая память, демонстрировавшая удивительную гибкость, подвижность и способность быстро адаптироваться к его актуальным потребностям.
А.И. Сидоров
1.2. Древнейшее прошлое Милана в сочинении Гальвано Фьяммы «Politia novella»[37]
Имя доминиканского писателя Гальвано Фьяммы (ок. 1283 – после 1344)[38] за последнюю пару лет обрело широкую известность благодаря открытию в одном из списков его «Всемирной хроники» (Chronica universalis) сведений о заокеанской земле «Маркалада»[39]. Последняя, по-видимому, соответствует легендарному Маркланду скандинавской традиции, что, в свою очередь, придает иное звучание теме доколумбовых путешествий в Америку. Быстро раскрученный мировыми СМИ сюжет, однако, не должен заслонить ту важную роль, которую Гальвано на протяжении первой половины XIV в. играл в легитимации правившего Миланом дома Висконти, а также в прославлении ломбардских древностей как таковых. Один из вариантов довольно необычной репрезентации истории Милана и его окрестностей представлен в сочинении Гальвано «Politia novella» (Новая полития)[40], до сих пор не часто привлекавшем внимание ученых-историков[41] – очевидно, в силу небольшого объема и «общей недостоверности» рассказа.
Сегодняшний интерес к «Новой политии» связан с ее включенностью в процесс глубокой трансформации того корпуса легенд о заселении Италии (и основании здесь первых городов), который обычно ассоциируется с римским влиянием и представлен многочисленными сведениями о «троянском происхождении» отдельных сообществ и/или правящих династий. В период последней трети XIII–XIV вв. «исключительная древность» целого ряда итальянских городов начинает обосновываться иначе: авторы соответствующих исторических сочинений продвигают на роль «героев-основателей» не уцелевших троянцев, но персонажей, которые в равной мере соотносимы и с греко-римской, и с библейской традицией[42]. Одним из городов, обретавших в воображении ряда итальянских писателей того времени максимально древние корни, был Милан.
Историки, обсуждавшие миланское прошлое до начала треченто, использовали, прежде всего, сведения римской традиции (в частности, знаменитый рассказ Тита Ливия, который относил основание города ко времени правления Тарквиния Приска[43]), а также производные от нее версии. Хотя еще Исидор Севильский в «Этимологиях» писал о сыне Иафета (т. е. внуке Ноя) Тубале, как о возможном родоначальнике не только иберов (испанцев), но и италов[44], данное известие до поры не особо увлекало ломбардских авторов, которые довольствовались указанием на троянское происхождение многих городов Ломбардии[45]. Желание максимально углубить истоки городского сообщества (попутно масштабировав и сам принцип генеалогического превосходства над соседними центрами), по всей видимости, следует связывать с укреплением власти Висконти в 1311–1322 гг. (т. е. во время второго – «графского» – правления Маттео I)[46].
В написанной между 1317 и 1322 гг. «Истории Амвросиева града»[47] нотарий Джованни да Черменате упоминает о сыне Тубала («qui Ispanos et Italos genuit»)[48] – Субре (Subres)[49]. Это имя, определенно, соотносится с названием кельтского племени инсубров, которым в античной традиции приписывалось заселение Цизальпинской Галлии. По словам Джованни, Субр «еще при жизни прадеда» (Ноя) выстроил в междуречье Тичино и Адды (т. е. в местности, где позднее возник Милан) город Субрию. Данное название позднее якобы распространится и на окрестные земли[50]. Лишь после основания Субрии в Италию прибывает прадед Субра Ной с двумя сыновьями, рожденными после потопа. Высадившись на берег «неподалеку от места, где ныне расположен Рим», Ной закладывает город, названный в честь основателя[51]. Судя по рассказу Джованни да Черменате, освоение прилегающей к Милану территории четко связано с самым ранним этапом заселения Италии, который отнесен ко времени жизни Ноя (при том, что сам Ной оказался в окрестностях Рима позднее, чем его правнук Субр в области будущего «Амвросиева града»).
Доминиканец Гальвано Фьямма, из-под пера которого в 1330-х – первой половине 1340-х гг. вышло сразу несколько сочинений, посвященных миланской истории[52], также активно эксплуатировал тему древней Субрии как города-предшественника Милана. При этом, впрочем, писатель проявлял известную гибкость, подчас позволяя читателю самостоятельно решить, какая из версий происхождения Милана более достоверна. В данной связи показателен фрагмент его «Chronicon extravagans de antiquitatibus Mediolani» (Диковинной хроники о древностях Милана), посвященный генеалогии Субра: «Первооснователем и творцом [Милана] называют царя Субра, происхождение и род которого неясны: одни говорят, что его породил царь Геспер, возделывавший Италию и нарекший [ее] по своему имени Гесперией; другие – что это был двуликий Янус по прозвищу Субр…; а иные скажут, что Субр – один из потомков Тубала, сына Иафета. Сие, однако, не особо важно, поскольку, будь он этим или тем, древность [самой] истории не изменится. Пусть и возразит здесь кто-то: “Из-за того, что не ясно, кем был первооснователь, сомнительно и все, относящееся к первооснованию города”. В ответ же: “Молвить пристало, что древность одна порождает ошибки. Нечто похожее ведь произошло и с Римом, владыкою всего мира, ибо о первооснователе его нет четких сведений: Вергилий говорит, что таковым был Эвандр, Салюстий – что Эней, Энний считает, что это – Ромул, иные – что Камес, а другие – что Янус. Потому и говорит Исидор в «Этимологиях», что древность одна порождает ошибки[53]. Если уж безвестен первотворец Рима, владыки мира, не удивляет и сходное неведение в отношении града Милана”»[54]. Как видно из приведенной цитаты, Гальвано не только проговаривает различные варианты идентификации Субра, но и формирует – проводя параллели с легендами об основании Рима – снисходительное и «ровное» отношение к старинным преданиям.
При желании, впрочем, доминиканский писатель способен максимально развернуть приглянувшийся ему легендарный материал, контаминируя данные из самых разных источников, сталкивая между собой сведения реально существовавших авторов, вводя свидетельства писателей, напротив, никому неизвестных, и настойчиво продвигая мысль о чрезвычайной древности и былом могуществе Милана. Именно эта стратегия, по-видимому, является определяющей в «Новой политии»[55], которую принято считать одним из позднейших трудов (а, возможно, и самым последним), подготовленных Гальвано Фьяммой. Далее – с опорой на текст «Новой политии» по рукописи Biblioteca Ambrosiana A 275 inf. – рассматриваются основные повествовательные компоненты данной стратегии. Особое внимание при этом будет уделено использованию доминиканским автором специфической топики «темпорального доминирования» вымышленных миланских властителей.
Текст «Новой политии» состоит из 155 небольших глав, которые распределены по двум книгам[56]. Первая книга, разделенная на 72 главы, охватывает события от потопа и первоначального заселения Италии до основания Рима. В 83 главах второй книги повествуется о дальнейших событиях вплоть до утверждения единоличной власти Октавиана Августа и рождения Иисуса Христа. Адресуя свой труд «сиятельным князьям и предводителям, сенаторам и консулам миланского града», Гальвано характеризует его как «книгу или хронику…, в которой [они] смогли бы разглядеть, будто в зеркале, все свершившееся с этим городом в древности»[57]. Если цитированная выше «Диковинная хроника о древностях Милана» – вопреки своему названию – напоминает, скорее, хорографическое сочинение (и даже структурирована на манер позднейших трудов антикваров), то «Politia novella» – опять-таки в пику заглавию – представляет собой, по большому счету, попытку связать в едином, хронологически упорядоченном нарративе сведения по древнейшей истории города и его округи.
На деле перед читателями «Новой политии» предстает воображаемая картина «великого прошлого» Милана, первооснователем которого – в год от сотворения мира 1948-й[58] – якобы являлся упоминаемый выше Янус Субр (сын Тубала, внук Иафета). Благодаря усилиям этого правителя его соплеменники, еще недавно ведшие кочевую жизнь (букв. «uiuebant more tartarico»[59]), обрели законы и иные атрибуты «окультуренного» городского сообщества, которое быстро росло, пополняясь новыми членами: «Со временем царь назначил в городе сенаторов и, чтоб все жили согласно естественному праву, огласил многочисленные законы либо записал [свои] установления. И стекались в сей град люди из окрестных городов и поселений. И за краткий срок укрепился он и возвеличился»[60]. Писатель особо оговаривает увлеченность Януса Субра язычеством и наличие в городе многочисленных жрецов и предсказателей: «И обратил царь сердце свое к возведению храмов [разным] богам, и назначил он понтификов и авгуров, заклинателей, чародеев и чернокнижников, звездочетов и прорицателей, которые неустанно творили идолам жертвы»[61]. О теме прорицаний в рассказе Гальвано еще будет сказано ниже.
Как следует из текста «Новой политии», основанный Янусом Субром и быстро разросшийся город Субрия в дальнейшем неоднократно переходил под власть самых разных династий, неоднократно разрушался (в общей сложности 22 раза[62]) и опять отстраивался, менял свое название, оставаясь «точкой притяжения» для все новых и новых завоевателей. Так, в различные периоды древнейшей истории он назывался Субрией (Subria), Мезопией (Mesopia), Кал(л)абрией (Cal(l)abria), Пуценцией (Pucentia), Альбой (Alba), Эдуей (Edua), Медиоланом (Mediolanum), вновь Альбой и повторно Медиоланом. Соответствующими изменениями отмечено и прошлое области Ломбардия, которая в силу постоянных вторжений извне тоже именовалась по-разному (Инсубрия, Верхняя Тусция, Цизальпинская Лигурия и т. д.). Пертурбации подобного плана отчасти освещались и в более ранних текстах Гальвано, однако в «Новой политии» им уделено основное внимание[63]. При этом свершения некоторых завоевателей и правителей древнего Милана описаны доминиканским автором весьма лаконично, тогда как другим героям – например, «королям Энглерии», т. е. Англерии или Ангуарии / Ангьеры, и якобы происходящим от них Висконти (лат. Vicecomites) – отводится сразу несколько сравнительно объемных глав[64]. Среди упоминаемых Гальвано источников подчас обнаруживаются реально существовавшие тексты Античности или Средневековья, однако нередко он ссылается и на «хроники», которые приписаны откровенно вымышленным персонажам.
«Точные» доказательства собственно хронологического старшинства Милана среди иных поселений на территории Италии как будто бы не особо заботят Гальвано, который – сравнивая различные подходы к толкованию древности[65] – выбирает некий «средний путь» и обосновывает первенство «града Миланского», исходя из максимальной пригодности его территории для «хорошей жизни»: «являясь древним или нет, град Миланский, однако, должен быть старше иных городов, как доказывается ниже. Прежде, впрочем, надлежит знать, что Карин в хрониках говорит, будто Ной процарствовал в Италии 152 года и отстроил многие города – а именно Ноэху, Равенну, Милан – и возвел множество иных крепостей, ибо он жил вплоть до третьей эпохи да и в ней самой 43 года. Кто-то говорит, что это сын его Тубал – еще до прибытия Ноя в Италию – выстроил Равенну и Милан во вторую эпоху, когда были разделены языки. Одними сказано, что Милан построили троянцы, а другими – совершенно противоположное: что троянцы, после разорения Трои, разрушили его. Я же избрал средний путь, каковой полагаю более верным (здесь и далее курсив наш. – А.М.), нежели вышеизложенное [мнение] (будто Милан основан в третью мировую эпоху), и потому еще, что он лучше подкреплен сведениями хроник и достоверных авторов. Вполне можно сказать [и то], что Милан должен был стать первым городом Италии, а доказывается сие так. Ведь при наличии умения и возможности выбирать, для обитания предпочитают местность, наиболее приспособленную к достойной жизни и менее зависимую от стороннего вспоможения. Но град Миланский изобилует всем необходимым для доброго житья в большей мере – а в помощи извне нуждается меньше – чем какой-либо иной город Италии, как я докажу. Посему и должен был он стать первым и более древним городом Италии»[66]. Таким образом, вероятность древнего происхождения Милана поставлена в прямую зависимость от его обеспеченности ресурсами и выгодной географической диспозиции.
Формулируя столь нестандартное объяснение превосходства ломбардской столицы над иными городами Италии, Гальвано далее пытается привлечь на свою сторону «философа Викторина»[67], после чего подробным образом характеризует удобнейшее расположение города[68]. Еще одним способом обосновать первенство Милана становится, как это ни странно, повторное известие о его многократном разрушении и быстром – всякий раз – возрождении. Последнее обстоятельство, по замыслу доминиканца, также может свидетельствовать в пользу особого благородства и исключительной древности города, который в данном отношении превосходит иные центры – Рим, Аквилею, Равенну: «Осталось предложить [еще] один аргумент в пользу вышесказанного. Нам очевидно, что вещь в случае, если она, будучи разрушенной, легко возродится, слывет благородной… Но град Миланский разрушали 22 раза и всякий раз он восстанавливался лучше прежнего, чего не происходило ни с Римом, ни с Аквилеей, ни с Равенной. Посему и основан он в более благородном месте, а, следовательно, и выстроить его должны были прежде любого иного города во всей Италии, что и утверждалось многими»[69].
В заключительных главах первой книги (68–70) на передний план выходит превращение Милана в столицу обширной «империи», которая была создана потомком Энея – Юлием Инсубром – и могущественным Пуценцием, правителем сикамбров (тоже некогда ушедших из Трои и поселившихся на территории будущей Германии). Ссылаясь на «Memoria seculorum» Готфрида из Витербо, наш автор приводит ряд деталей данного объединения, последовавшего за ним завоевания «всей Ломбардии» и воцарения Климаха – сына Пуценция, империя которого включала в себя как италийские, так и германские земли: «В год [от основания] Милана или Пуценции в провинции Цизальпинской Лигурии 1022-й, когда городом правил Юлий Инсубр, царь сикамбров Пуценций, вознамерившись навсегда остаться в Милане, со всем своим войском, женами, детьми, стадами, рабами и всем имуществом подошел к реке Тичино. Царь Юлий со всем своим воинством поспешил навстречу ему – к Тичино, всеми силами он воспрепятствовал переправе чужеземцев через реку. В итоге два царя завели речь о мире; поняв, что оба они происходят от троянцев, царь Пуценций молвил: “Славься, царь Юлий, брат мой! Ты ведь потомок царского рода, [основанного] троянцем Энеем, я же – отпрыск Приама Младшего. Прими меня в дом твой, и вовеки пребуду тебе товарищем и помощником”. И учинили они крепкий союз так, будто миланцы стали с сикамбрами единым народом, а двух царей увенчала одна корона… Правили совместно они двадцать лет. И сперва напали на Брешию, которую до основания разрушили, под конец же разорили миланцы с сикамбрами всю равнину Ломбардии… По смерти в Милане царя Пуценция его сын Климах правил двадцать лет, и была его империя чрезвычайно сильна, ибо состояла из италийской и алеманнской [частей], включая в себя Баварию, Каринтию, Алеманнию и Италию. Посему Климах восстановил имперские инсигнии, которые некогда в граде Миланском ввели императоры тусков»[70].
Показательно, что возникновение столь мощной державы (за сто с лишним лет до основания Рима!) также превращается под пером Гальвано в аргумент, подкрепляющий мнение о необыкновенной древности Милана. Авторитетами, которых доминиканец привлекает на свою сторону, в данном случае оказываются Аристотель и Евтропий: «Сказанным ясно подтверждается, что град Миланский – наидревнейший [в Италии], ибо его империя была – за 135 лет до появления Рима – столь крепка и могущественна, что сумела разорить всю Ломбардию. Здесь надлежит знать про слова Философа в первой книге “Политики” о том, что возникновение города носит естественный характер… Природа [же] никогда не действует скачками, но поступательно. Если зарождение города протекает согласно природе, как уже сказано, то ни один город не был настолько велик и могуч, чтобы за малое время подчинить либо разорить иные города… Однако Миланский град за 135 лет до появления Рима был столь могуч, что подчинил и разорил всю Ломбардскую равнину. Значит, и сооружен был он задолго до этих войн, а, следовательно, является наидревнейшим. Это доказывается и другим примером. Ведь, по словам Евтропия, Рим и за 218 лет не смог подчинить себе земли, кроме тех, что простирались всего на 18 миль. А то, что природа ничего не совершает наскоком, но действует поступательно, ясно и на примере человека, который вначале являет собой младенца, затем – мальчишку, после – юношу, потом – зрелого мужа…»[71]. Вывод писателя, столь уверенного в «противоестественности» любого скачкообразного роста, весьма предсказуем: «Из всего этого явствует, что град Миланский был наидревнейшим, ибо в древнейшие времена смог подчинить всю Италию»[72].
Соперничество древней Миланской «империи» с Римом служит одним из сквозных сюжетов во второй книге «Новой политии». Различным граням данной темы может быть посвящена отдельная работа. Здесь же необходимо отметить тот факт, что Гальвано Фьямма, пытаясь прославить прошлое Милана, довольно эффектно манипулирует сведениями профетического плана и преподносит основание этого города следствием реализации одного чрезвычайно показательного пророчества. Так, еще повествуя о странствиях Януса Субра по Галлии и его пребывании где-то на территории позднейшей Савойи[73], писатель сообщает о сооружении алтаря в честь могущественного божества Деморгегона (sic!)[74], который в языческом пантеоне якобы считался «отцом всех богов» и изображался с тремя лицами, как «если бы был богом прошлого, настоящего и будущего»[75]. Именно предсказанием, которое Янус Субр обрел в ответ на жертву «отцу богов», были определены подходящие время и место для постройки города, что «в будущем станет матерью многих народов»[76] – т. е. Субрии / Милана. Последний, таким образом, изначально ассоциирован с воображаемыми практиками контроля над будущим. Гальвано при этом отнюдь не чурается указания на языческий характер данных практик: подобный акцент позволяет, с одной стороны, соблюсти верность христианскому взгляду на идолопоклонство как ключевую черту античной религиозности, с другой же – акцентировать вклад древнего жречества в «учреждение порядка времен».
Нежелание камуфлировать «опасные» для христианской аудитории языческие компоненты образа Януса – как почтенного героя-основателя сообщества – отличает модель мифологизации прошлого, используемую Гальвано, от подхода, который характерен, к примеру, для Иакова Ворагинского (Якопо да Вараццо). Напомним, что Иаков в «Хронике Генуи» (кон. XIII в.) предпочел говорить сразу о трех Янусах[77]. Первый из них, по-видимому бывший потомком библейского Нимрода, приплыл в Италию «во времена Моисея» и стал здесь царем. Он основал небольшое поселение Яникула (лат. Ianicula) на территории, где позднее выросла Генуя. Второй Янус в «Хронике» Иакова – это троянец, спутник Энея и Антенора. Прибыв после гибели Трои в Италию, он селится в Яникуле и строит там мощную крепость, вследствие чего городок начинает расти и со временем меняет название на Ianua (т. е. становится собственно Генуей). Наконец, третий Янус у Иакова – это царь эпиротов, некогда изгнанный из родной страны и ценой своей жизни спасший Рим в ходе его осады варварами. Римляне обожествили погибшего эпирского героя, а подчинявшиеся Риму генуэзцы позднее возвели у себя огромную медную статую Януса Эпирского и поклонялись этому идолу. Мы видим, что языческие коннотации имени Янус как будто бы замкнуты в «Хронике» Иакова на историю Януса Эпирского – персонажа, который не особо значим в контексте рассказа об основании великого города и выступает своего рода «заземляющим элементом». Совершенно иную технику работы с языческим контуром легитимирующего мифа можно обнаружить в сочинении Гальвано.
Янус Субр, характеризуемый автором «Новой политии» как «умнейший муж, философ и астролог», после смерти обожествляется соплеменниками и становится объектом всеобщего почитания. Поскольку именно он предложил разделить год на четыре части, жители Субрии прославляют его соответствующим святилищем и медной статуей с четырьмя лицами или головами.
Каждая «личина» этого идола, заявляет Гальвано, соотносилась не только с конкретным временем года, но и с одним из периодов человеческой жизни – так, что разновозрастные обитатели древней Субрии должны были почитать ту или иную ипостась обожествленного героя[78]. Последний постепенно стал восприниматься в качестве «бога – создателя времен» и покровителя всех человеческих начинаний, что отразилось, по словам Гальвано, в самых различных календарных обрядах и поверьях древности: «Также, вследствие давнего обычая поклоняться богам и богиням времени, как сказано выше, этот царь Субр и сам был назван богом времен.
И после смерти его причислили к богам. Его назвали богом – создателем времен, то есть прошлого, настоящего и будущего, а также всяких начинаний людских. Поэтому, если кто-то хотел начать строительство дома, крепости, города или иного сооружения, то посвящал фундамент (как первоначальную часть постройки) богу Янусу Инсубру. Сходным образом и каждый покупатель или продавец жертвовал ему первый денарий, и так обстояло со всяким мирским занятием, доступным человеку. Поскольку Янус был богом всех начинаний, люди посвятили ему первый день года и первый же месяц, названный Януарием. Об этом упомянул Папий…
Обычай укоренился настолько, что всяк, кто в первый день нового года получил какую-либо посылку, подарок или приветствие, обретал уверенность, что пребудет удачливым весь год. Такого рода подарок именовался стреной, то бишь всенепременным благоволением фортуны. Отсюда читаем и об императоре Октавиане, что в первый день января он ходил по Риму с протянутой рукой, выпрашивая оболы (то есть мелкие деньги), покуда ладонь его не наполнялась монетками»[79].
Топика «темпорального и пространственного доминирования» древнейших обитателей Милана разрабатывается Гальвано с помощью сведений о сооружении еще двух идолов бога Януса. Один из них («идол двуликого Януса») упомянут писателем в главе 37 (озаглавленной «De ydolo Iani bifrontis»). Данную статую жители Субрии почитали в связи с празднованием смены года – именно этот культ, согласно средневековому автору, был позднее заимствован римлянами[80]. Наконец, в главах 40 и 42 описывается идол Януса («legitur de quodam alio ydolo regis Iani ad Mazam»), находившийся на месте будущей церкви Сан-Доннино алла Мацца и покровительствовавший всем путникам, а также стражам и привратникам: «Здесь надлежит знать, что царь Янус Субр, разделивший год на четыре части…, нарек и вообразил первый весенний день вратами весны. Первый летний день он нарек вратами лета. И первый осенний день – вратами осени. А первый зимний – вратами зимы. Сам же он носил… железный ключ, ударяя [им] по вратам с приходом первого дня [того или иного времени года], словно был стражем всех ворот, имевшихся в мире. В левой руке он держал посох для указания пути несведущим, будто бы выступая хранителем дорог и защитником от всех опасностей, которые настигают путешественников, паломников и купцов. И каждый путник, желая начать поездку, совершал жертвоприношение тому идолу. Сходным образом всякий, кто сторожил городские врата или же сомневался в [крепости] ворот либо двери собственного дома, приказывал помещать над ними изображение того [бога]»[81]. Средневековый писатель обращает внимание на то, что бог Янус «ad Mazam» изображался держащим правой рукой табличку с числом 300, а в левой – с числом 65, символизируя год солнечного календаря (поверх статуи было помещено изображение солнца)[82].
Приведенные фрагменты «Новой политии» четко свидетельствуют о том, что для Гальвано Фьяммы важно не только изобразить Януса Субра первым насельником максимально удобного ad bene vivendum городского пространства, но и закрепить за древним героем и его соотечественниками (из)обретение некоего «исконного» культа времени. Анализируемое в широком историко-антропологическом ключе, это устремление средневекового писателя, безусловно, покажется кому-то стандартным вариантом стягивания «дорог и времен» к единому квази-сакральному центру («срединной земле»), который в контексте мифологизации прошлого должен выступать идеальной прародиной славных предков. Не менее значимым, однако, представляется своего рода «компенсаторный эффект» подобных построений Гальвано: особая «темпоральная дисциплинированность», якобы изначально присущая обитателям Милана, будто бы извиняет их неспособность удержать обширную и богатую территорию, властвовать над которой позднее будут самые разные пришлые завоеватели – от уцелевших троянцев до римлян и лангобардов. Там, где земля столь часто меняет хозяев, имеет смысл помнить о грядущей неопределенности и правильно распоряжаться временем.









