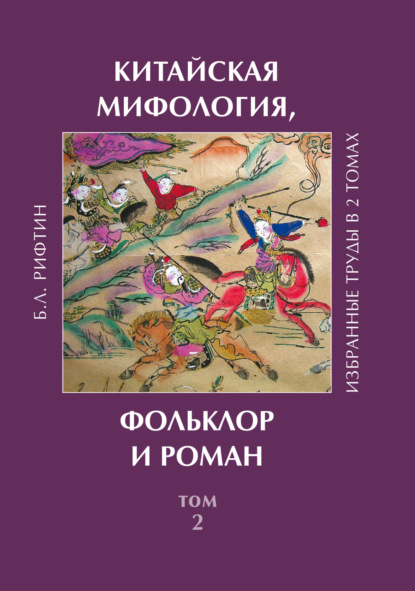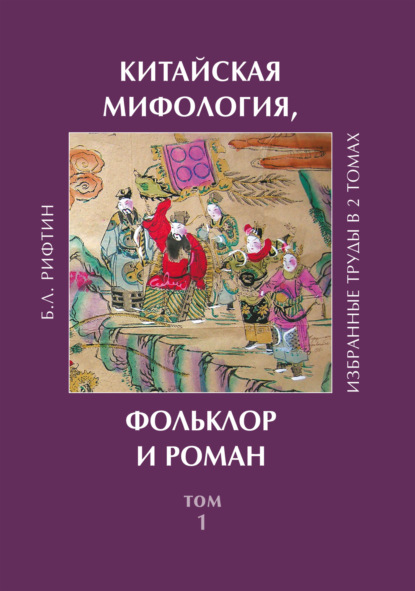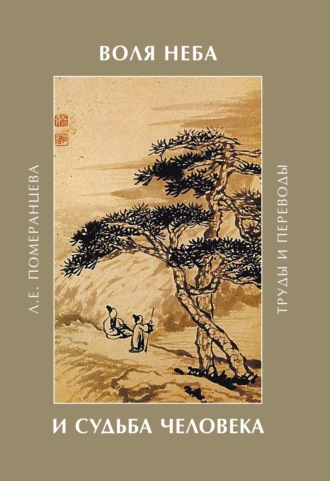
Полная версия
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы
Знакомство с творческим наследием Л.Е. Померанцевой заставляет обратить внимание на его принадлежность к той научной школе, которой свойственно было уделять особое внимание изучению памятников классической древности. Это обязывало ученого ко всестороннему проникновению в мир сознания и языка китайской культуры, что, в свою очередь, предполагало изучение «Пятикнижия», погружение в мир философских школ, прочтение традиционной историографии, овладение песенно-поэтическими системами, а также восприятие комментаторской традиции, без опоры на которую связь классики с современностью была бы утрачена. В Китае все эти задачи на протяжении веков решала традиционная китайская филология, посвящая своего (китайского) читателя в уже бесконечно далекую для него китайскую древность. Бережно храня смысловые нити литературного канона, эта школа была ориентирована на жанр традиционного «комментария» (чжуцзе) к оригинальному тексту и не обладала современным научным аппаратом. Лишь на рубеже XIX и XX вв. некоторые китайские исследователи во многом под влиянием образования, полученного за рубежом, стали более восприимчивы к западной научной культуре, перенося ее методы на китайский материал. В числе наиболее известных китаеведов «новой волны» следует упомянуть Чэнь Инькэ (1890–1969) и Ло Гэньцзэ (1900–1960), которые стали придерживаться в своих исследованиях более свободной рубрикации по проблемным вопросам и отдавать должное историческим закономерностям в литературе. На Западе тем временем велась трудная работа по прочтению китайских классических текстов и их переводу на европейские языки. В качестве пионеров здесь выступили христианские миссионеры, находившиеся в Китае в духовных миссиях и получившие таким образом доступ к книжному фонду и его знатокам. Отчасти по причине собственного интереса к духовно-философским темам, отчасти по причине значимости памятников данного характера в китайской традиции миссионеры пришли в конечном счете все к той же классике, и ее переводы стали главным достижением западного китаеведения данного периода. В числе наиболее значимых следует упомянуть переводы конфуцианских и даосских текстов, выполненные Джеймсом Леггом (1815–1897), которые считаются классическими и по сей день.
Колыбелью отечественного китаеведения стала Русская духовная миссия в Пекине. В разные годы ее возглавляли Иакинф Бичурин (1777–1853), Палладий Кафаров (1817–1878), при этой же миссии девять лет провел, не являясь священником, Василий Павлович Васильев (1818–1900). Принято считать, что именно он – китаевед, буддолог, санскритолог – является основоположником академического китаеведения в России. «Он был в числе первых востоковедов, поставивших вопрос о выработке адекватного языка описания буддийского духовного опыта, о критериях выбора аналогов для перевода категорий буддийского учения на европейские языки, в частности, о возможности применения таких понятий, как „спасение“, „подвижничество“, „святость“, „божественное“, „духовное“, „плотское“, „грех“ к буддийским реалиям»[80]. По мере того как китаеведение перемещалось из духовных миссий в университетские аудитории, в центре внимания все больше оказывалось «слово» и связанные с ним проблемы. Среди выдающихся отечественных китаеведов, знатоков китайской литературы особое место занимает Василий Михайлович Алексеев (1881–1951). В 1916г. он защищает в Петербурге магистерскую диссертацию по теме «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837–908). Перевод и исследование», где впервые утверждает правомочность сравнительного изучения Востока и Запада. В 1944г. В.М. Алексеев публикует статью под названием «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве»[81]. За ней следуют и другие работы, которые он называет «сравнительными этюдами» и за которыми видит будущее: «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве»[82] (1944), «Греческий логос и китайское дао»[83] (1947). Как утверждает М.В. Баньковская, «подоплекой сравнительного метода было возникшее в Алексееве задолго до написания статьи[84] окрашенное научным чувством восприятие литературного и вообще культурного наследства всего человечества как единого, несмотря на все национальные и исторические различия, процесса. Такое мироощущение пришло к нему еще в начале века, в Китае, куда он был послан для „подготовки к профессорскому званию“, а затем укреплялось и обретением знаний и опыта, и присутствием единомышленников в его среде, притом не только востоковедной»[85].
Все это свидетельствует о том, что усилиями ведущих специалистов восточная литература постепенно осознается как часть литературы мировой. Это приводит исследователей к мысли о поиске общих закономерностей. Возникает представление о глобальном литературном процессе. В этой связи наиболее продуктивной, с точки зрения востоковедения, оказалась попытка исторической периодизации восточных литератур по принципам, сформированным западной наукой: в них также обнаруживаются крупные культурно-исторические эпохи, а именно свои «античность», «средневековье», «Возрождение» и «Просвещение». «Последние века европейской античности,– писал академик Н.И. Конрад (1891–1970),– таили в себе зародыши будущего средневековья; последние столетия китайской античности готовили – и при этом очень явственно – почву для новой, уже властно вступавшей в жизнь исторической эпохи – также средневековья»[86]. Но доказательство выдвинутых гипотез требовало немало усилий. Так, например, по поводу статьи Л.Д. Позднеевой «Ораторское искусство и памятники древнего Китая»[87], где впервые в западном китаеведении было сказано о том, что существовавшая в древнем Китае ораторская традиция нашла непосредственное преломление в формировании стиля и композиции текстов с авторской записью, в частности исторической прозе, Л.Е. Померанцева пишет: «Возражения оппонентов вызвало слово „оратор“ – все привыкли связывать его с античным красноречием, Цицероном, форумом, полисным публичным красноречием, а Китай – это восточная деспотия, в которой исключены демократические традиции. Но Любовь Дмитриевна парирует доводы оппонентов: оттого что речи обращались к царю, к войскам, представляли собой состязательное красноречие советников в присутствии царя или философов друг с другом, они, может быть, имели особенности по сравнению с греческим или римским красноречием, но не переставали ими быть по существу»[88].
Наверное не случайно, что в своей первой научной публикации, которая называется «О некоторых стилистических особенностях „Хуайнаньцзы“ (IIв. до н.э.)», Л.Е. Померанцева обращается именно к этой теме. Она исследует текст памятника на предмет наличия в нем риторических приемов, свойственных ораторской речи, и обнаруживает там: синтаксические параллелизмы, повторяющиеся периоды, эмфатические обороты, синонимические градации, поэтические отступления, амплификации, антитезы и пр. Она отмечает свойственную тексту памятника ритмическую организацию речи и приходит к выводу, что «целый ряд художественных приемов, которые наблюдаются в „Хуайнаньцзы“, указывает на живую связь письменной речи IIв. до н.э. с формой устного выступления, долгое время бывшей наиболее привычной и не утратившей, по-видимому, своего значения и во времена составления памятника»[89]. Этим подтверждается еще и то, что законы риторики, сформулированные античной традицией, оказываются универсальными и обнаруживают себя в том числе в китайской философской прозе. Они присутствуют и в эпистолярном жанре. Л.Е. Померанцева констатирует, что древнее письмо – как на Востоке, так и на Западе,– будучи облеченным в изящную литературную форму, представляло собой художественное произведение и являлось в известном смысле «открытым», т.е. предназначенным для прочтения многими людьми. Таковым, например, можно считать письмо Сыма Цяня к Жэнь Аню: «Анализ его художественной стороны дает основание отнести письмо к литературным жанрам, в основе которых лежит поэтический способ организации речи, свидетельством чего являются доминирующая роль повтора, использование ассоциативных связей вместо временных, замена логических выводов лирическими отступлениями и, наконец, ритм»[90].
Обращает на себя внимание, что «Изречения», «Мэнцзы», «Хуайнаньцзы», «Исторические записки» классифицируются Л.Е Померанцевой как «проза» («философская» и «историческая») и рассматриваются по законам литературного жанра. Таков выбор филолога. Он узнаваем и в том, как подбирается материал для перевода фрагментов философских памятников. Так, например, в подборке из «Изречений» Конфуция мы находим наиболее развернутые диалоги, эпизоды с сюжетной основой, в которых «очевидны элементы бытовизации, создающие ощущение полной жизненности, а иногда и интимности обстановки, в которой проходит общение учителя и ученика. В некоторых, хотя и немногих, фрагментах присутствует психологизм»[91]. Помещая рассматриваемые памятники целиком в зону ответственности литературоведения, Л.Е Померанцева организует свое исследование по ряду проблемных вопросов. Ее интересуют их образная система, структура композиции, авторский герой, что с точки зрения филологии является совершенно естественным. Тем не менее в исторической перспективе данные подходы в китаеведении стали возможны относительно недавно лишь по мере того, как прочтение древнекитайской классики современными исследователями вышло на принципиально новый научный уровень. И здесь следует отдать должное литературоведческой эрудиции Л.Е. Померанцевой, ее глубокому проникновению в мифологические, исторические, поэтические образы китайской классики. Ее научное кредо, сформулированное в связи с «Хуайнаньцзы», но распространяющееся в полной мере на весь корпус ее работ, звучит так: «Без попытки войти в образный мир даосских памятников вообще и „Хуайнаньцзы“ в частности, учитывая специфику формы изложения любой древней философии, нельзя приблизиться к пониманию конкретных выводов этой философии. Филологический анализ текста есть путь к его философскому анализу»[92].
Эпоха древности, которой посвящено большинство научных публикаций Л.Е. Померанцевой, отличается не только своим культурным значением, но и большой удаленностью во времени. Свойственный ей образ сознания и сам по себе представляет научную проблему. По этой причине Л.Е. Померанцева обращается к изобразительному искусству эпохи Хань, рассматривая его как документ, способствующий выяснению «той мировоззренческой базы, которая лежит в основе художественных и эстетических принципов эпохи»[93]. Она обнаруживает в нем те же самые черты, которые были отмечены ею в литературе этого времени. «Вся эта вздернутость, поставленность на дыбы, свойственные ханьскому искусству, как представляется, не случайны и вполне созвучны тем настроениям, которые уже известны из „Хуайнаньцзы“, как не случайно удивительное внимание к деталям, дающее ощущение необыкновенной подробности изображения отдельных сцен: художника стал интересовать мир в его единичных предметах и мгновенных проявлениях»[94]. Опираясь на исследования Н.А. Виноградовой и Э.М. Яншиной в области изобразительного искусства, Л.Е. Померанцева констатирует, что «в ханьских погребениях перед нами открывается целая портретная галерея исторических персонажей. Каждая из фигур в отдельности, возможно, выполнена условно, но, рядом положенные, они дают многовариантные, никогда не повторяющиеся изображения человека на пике эмоционального взрыва – в пылу борьбы, спора, в отчаянье и пр. Характерно, что и Сыма Цянь выбирает для своих „Жизнеописаний“ тех же героев, которых мы встречаем в этих „галереях“, и у него они оказываются поставленными в экстремальные условия, в ситуации, которые требуют от них максимального напряжения внутренних сил»[95].
Как видно из приведенных примеров, единый архетип сознания эпохи обнаруживает себя во всех проявлениях человеческой культуры. Его действительность и временные рамки в конечном счете и определяют то, что принято называть «древностью». «Идеи конца древности определят мировоззрение и следующей эпохи – средневековья с его новой мифологией, пантеизмом, с поисками и блестящими опытами воспроизведения тончайших нитей, связывающих природные вещи и человека»[96]. Китайское «средневековье», первую половину которого принято датировать II–VIвв., было отмечено расцветом религиозного даосизма (дао цзяо), мистицизма, алхимии, культом «отшельничества» и поисками «эликсира бессмертия». Средневековье помнит древность, но интерпретирует ее по-своему, являясь ее антитезой. Можно сказать, что свойственный ханьскому времени интерес к «Мгновению» сменяется здесь интересом к «Вечности». В литературе «в средние века сложился поэтический канон, представляющий собой набор строгих правил, условных образов, обязательных тем, символизирующих незыблемость вечных устоев, их суровую красоту и таинственную закономерность проявления в этом мире»[97]. Жанр «жизнеописания», составляющий бóльшую часть «Исторических записок» Сыма Цяня, становится основой для средневекового жанра «жития», построенного по мистическим принципам и обнаруживающего сходства с житийным архетипом в других культурах[98]. В литературе данная трансформация удивительным образом способствует развитию повествовательного жанра.
Наступление эпохи Тан было ознаменовано установлением иного характера сознания, что в совокупности с рядом факторов дает историкам литературы основания называть ее китайским «Возрождением». То было время расцвета буддийской цивилизации в Китае, «золотой век» китайской поэзии, когда китайская духовность, литература, эстетика оказывали определяющее влияние на всю Восточную Азию, включая Японию, Корею, Тибет, Монголию и Вьетнам,– эпоха, возникшая однажды и не повторившаяся никогда. По поводу правомерности называть ее «Возрождением» существуют разные мнения. Л.Е. Померанцева была уверенным сторонником данной формулировки, учитывая то значение и качество, которые эпоха Тан имела в литературе. «В 1960–1965гг. в Москве прошли дискуссии по Возрождению и Просвещению на Востоке. В них принимали участие востоковеды – литературоведы и историки, как советские, так и иностранные (З. Берзинг, Я. Прушек и др.), а также исследователи западной литературы (С.В. Тураев, И.Г. Неупокоева). Дискуссии были бурные, в них участвовало рекордное количество ученых. Самый острый вопрос состоял в том, правомерно ли применять к восточным литературам те же критерии, что и к западным?.. Единой позиции выработано не было. Причиной тому стала неготовность востоковедов в то время говорить с западниками на одном языке, а у последних (как и до сих пор) почти отсутствовали знание восточных литератур и интерес к приобретению таких знаний. Суждения западников строились почти исключительно на той информации, которую они получили из прослушанных докладов… Прежде всего не было достаточного количества переводов источников и исследований по отдельным периодам, произведениям, авторам, не хватало сведений общекультурного характера, из которых бы могла сложиться внятная историческая, литературная, культурная картина жизни общества в интересующий всех момент истории. За прошедшие десятилетия в востоковедении произошли огромные перемены: накоплен фактический материал – переводы и исследования, появилась надежда, что снова возвратится интерес к его обобщению»[99].
Следует отметить, что в наше время изменилось и отношение к данной теме. Представления о единстве мировой литературы перешли из состояния гипотезы в магистральное направление мысли. Оно объединяет не только западных ученых, но и ученых в Китае, которые все чаще размышляют о периодизации китайской литературы по новым принципам – за пределами традиционной системы династических циклов. Приятно сознавать, что отечественная школа была здесь в числе пионеров. Справедливо также и то, что все самое передовое, смелое и оригинальное, что было выработано в национальных школах, со временем неизбежно становится общим достоянием мирового китаеведения.
Дмитрий Хуземи
Хуайнаньцзы[100]
Философы из Хуайнани
Дорогому учителю
Любови Дмитриевне Позднеевой
посвящаю
Вступительная статья
«Философы из Хуайнани»[101], или «Хуайнаньцзы»,– одно из крупнейших произведений ханьского периода, именующегося так по названию древнекитайской империи IIв. до н.э.– IIв. н.э. Хань. Это философское и художественное произведение поздней древности явилось итогом дискуссий, которые велись при дворе и при активном участии хуайнаньского вана, князя, Лю Аня (179–122 до н.э.) его «гостями»[102] – членами творческого содружества. Ван был умен, образован, музыкален, склонен к занятиям искусствами – в древнем понимании этого слова. Помимо философских произведений, поэтических сборников, трактатов о звездах, алхимии и искусстве превращений, созданных в этом кружке, источники называют «Комментарий на „Скорбь отлученного“» Цюй Юаня[103], автором которого был сам Лю Ань. Произведения кружка были очень известны в свое время, но, к сожалению, не сохранились. Возможно, они разделили судьбу Лю Аня: будучи внуком основателя ханьской династии Лю Бана, он оказался во главе политического заговора против царствующего императора У-ди, не имевшего прямого наследника. Заговор был раскрыт, и Лю Ань вынужденно принял смерть, а люди из близкого к нему окружения были казнены[104].
В китайской традиции принято относить «Хуайнаньцзы» к жанру эклектики. По-видимому, в этой оценке присутствует некая инерция: рассматривать этот текст в ряду произведений чжу цзы – китайской философской классики. Но то, что считалось классикой в более поздние времена, для древности являлось в лучшем случае постклассикой. В качестве настоящей классики на время II в. до н. э. может рассматриваться общее наследие в виде текстов, впоследствии закрепленных в корпусе конфуцианского канона «Пятикнижие», а также произведения так называемых доциньских философов, т. е. тех, что создали фундамент для дальнейшего развития философии и время которых закончилось эпохой царств (т. е. в III в. до н. э.). Империя нуждалась в классике, опиралась на нее, пользовалась ее положениями, но была озабочена уже иными интересами и требованиями: не созданием оригинальной модели мира, а использованием уже созданных координат для ориентации в новом пространстве и новом времени. Поэтому корректнее поставить проблему так: ханьский эклектизм или поиски новых форм и смыслов? Ханьский эклектизм или ханьский синтез?
Есть несколько моментов, которые определяют особенности этой культурной эпохи. Ханьская империя в рассматриваемый период по многим аспектам – культурным и историческим – сопоставима с Римской. Переход от эпохи царств к империи свершился в короткий срок – первая китайская империя под названием Цинь образовалась в 221 г. до н. э., просуществовала до 207 г. до н. э. и пала под натиском народного восстания, возглавляемого выходцем из южного царства Чу. Однако усилиями реформаторов в короткий срок были проведены необходимые для централизации земель и экономики мероприятия, благодаря которым следующая империя – Хань выдержала значительный срок – 400 лет, полностью исполнив свое историческое предназначение.
Сравнительно быстрый переход от эпохи царств к империи требовал резкой перемены в мировоззрении. Сознание и психология людей, веками воспитывавшихся на общинных заповедях, лишь приспособленных к условиям города-государства, должны были измениться в условиях большой по территории и мощной империи, каковой стал Китай в правление ханьского У-ди (140 г. до н. э.). Выработанные веками универсалии в их прежнем наполнении не годились для нового времени, и между старыми представлениями о вещах и новыми реалиями разверзлась пропасть. Возникший вакуум с необходимостью был заполнен, свободное место заместила периферия – историческая, в виде обращения к далекому прошлому, и культурная, выразившаяся в повышенном внимании к «варварской» культуре южных царств. В первом случае это находило выражение в идеализации общины догосударственного периода с присущими ей культом природы и патриархальными отношениями в социуме. Во втором случае – в выделении на общекитайском фоне царства Чу, авангарда южной культуры, царства, последним сдавшегося под натиском другой периферии – царства Цинь. Империя, естественно, стремилась к централизации, однако две ее части резко контрастировали между собой. Это были «север» – территории к северу от реки Хуай и «юг» – бывшее царство Чу и прилегающие к нему районы. В культурном отношении чуские традиции тяготели к язычеству с его шаманизмом и чувственностью, а для традиций «срединных» земель в большей степени были характерны опора на государственные культы, в центре которых стоял культ предков, и бóльшая рационалистичность. Из этого вытекали проблемы как политические, так и культурно-исторические, решение которых лежало на путях компромисса.
Н.И. Конрад не однажды высказывал мысль о существующей параллели между ханьской культурной эпохой и явлениями, происходившими в типологически схожих обстоятельствах, почти в то же время, на другом конце света – в эллинистической Греции. Одним из оснований для этого ему послужило имевшее место – тут и там – подведение итогов, которым как бы завершался древний период в развитии этих культур[105]. Хотя исследователи античной литературы приводят свои собственные доводы для объяснения особенностей этого культурного феномена, сходство самих явлений очевидно. Авторы соответствующего раздела «Всемирной литературы», оговаривая сложность определения характера этой эпохи в целом, склоняются к такой формулировке: «…культ крайностей после культа гармонии, культ индивидуальности после культа общей нормы»[106]. Да, действительно, в ханьском Китае мы наблюдаем эти явления, и они имеют прямое отношение к пониманию текста «Хуайнаньцзы». При дворе У-ди звучат чуские мелодии, наиболее знаменитые поэты все сплошь с юга и несут в своих поэмах чуский дух, создают новую эстетику: динамизм, экспрессия, декоративность противостоят гармонии, умеренности чувств и простоте классики. Эта поэзия волнует, рождает сопереживание. Ее источник – творчество Цюй Юаня, аристократа, человека трагической судьбы, знаковой фигуры, первым отразившего в поэмах «Скорбь отлученного» и «Вопросы к небу» трагедию личности, потерявшей опору в виде истин, казавшихся незыблемыми. Все в этих поэмах наполнено чувствами смятенной души, кружащейся в вихре неразрешимых противоречий, взывающей к небесам и не получающей ответа.
Авторы «Хуайнаньцзы» отдают немалую дань этой эстетике и этой скорби по утрате прежних ценностей, но сами они не только не склонны от них отступать, но, наоборот, предпринимают попытку их укрепления в качестве фундамента для будущего. Это и выглядит как «подведение итогов». Философы пользуются всем доставшимся им наследием, свободно черпая из него «формы и смыслы» и, может быть незаметно для себя, его ревизуя. Человек империи не чувствует себя связанным родством с какой-либо одной определенной школой, он выбирает то, что считает для себя приемлемым,– на страницах памятника мы не раз встречаем критику узких ученых, скованных одним каким-то учением, с которыми бесполезно говорить о главном – о «совершенном дао». Свою теорию государственного управления авторы «Хуайнаньцзы» строили в большой мере опираясь на легизм[107]. Признавая главенство закона и равенство перед ним всех, они смягчали его жесткость конфуцианским милосердием, не абстрактным, а оправданным обстоятельствами. Несмотря на спорадические антиконфуцианские выпады, естественные в даосском контексте, наши философы выстраивают схему отношений внутри социума по конфуцианской модели. Используют они также положения и других школ.
Опора на предшествующее философское наследие нисколько не мешала сделать преимущественный выбор в пользу даосизма. Это не было вопросом субъективных пристрастий, но объяснялось сутью самого даосизма, представлявшего собой широкое учение, обнимавшее все стороны бытия, в отличие, например, от конфуцианства, ограничивавшегося этико-политическими проблемами. Даосы не были связаны и общинным сознанием, наоборот, они разрывали эти связи. Теперь, в эпоху империи, когда должен был выработаться куда более широкий, чем раньше, взгляд на мир, даосизм более, чем какое-либо другое учение, мог отвечать нуждам времени. Кроме того, его диалектика, если можно воспользоваться этим термином, была как нельзя кстати. В «Хуайнаньцзы» намеренно обнажаются противоречия, сталкиваются противоположности, но пафос состоит в раскрытии основ их взаимодействия, ведущего к созиданию, а не разрушению Целого.
Темы новых отношений с реальным миром присутствуют внутри традиционного дискурса и формально, и содержательно. Они еще только обсуждаются, и на протяжении всего текста мы становимся свидетелями постепенного продвижения к приемлемым решениям. Постепенно изменяются и формы. Основой служат привычная ораторская речь, комментарий и старый принцип описания целого через перечисление его частей. Но как путем «разъяснения» (главы «Хуайнаньцзы» называются словом сюнь – «разъяснение ради поучения»[108]) видоизменяются старые понятия и представления, так же точно преображаются и старые формы, в них раскрываются новые возможности для вмещения в себя расширившегося материала. Ведущим мировоззренческим принципом становится принцип сочетаемости, основанный на законе всеобщей соотнесенности вещей в природе (ли). Ведущим формальным принципом становится принцип уместности (и, бянь, ши): всякому содержанию должна соответствовать своя форма.