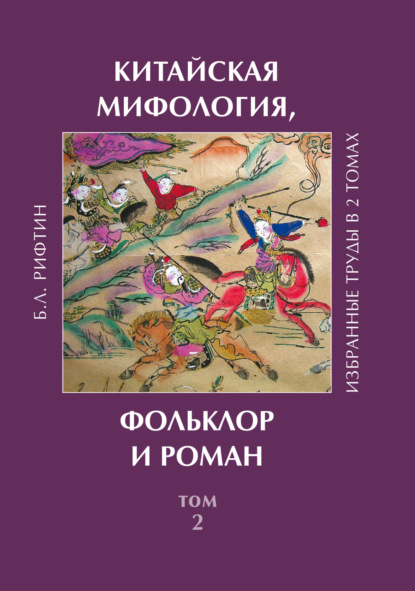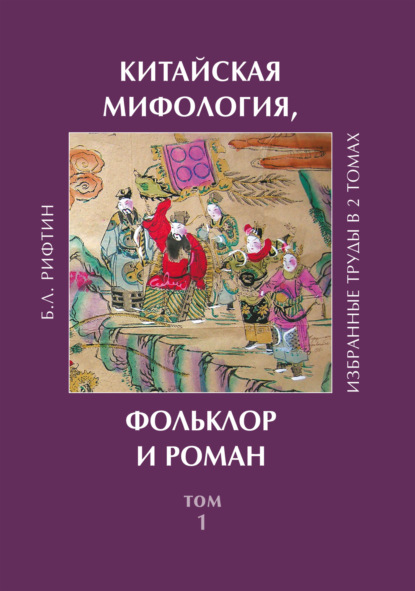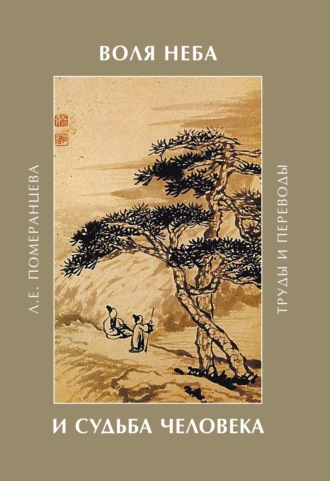
Полная версия
Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы
Другое дело – «Мэнцзы», памятник, названный по имени философа Мэн Кэ (327–289гг. до н.э.), крупнейшего в древности последователя Конфуция, жившего примерно через два столетия после него. Если «Изречения» это, скорее, «откровение», то «Мэнцзы» – «проповедь». И как часто бывает в подобных случаях, там содержится много нового. Даже из нескольких фрагментов памятника, включенных в настоящий сборник в переводах Л.Е. Померанцевой, нетрудно заметить, как сильно его текст отличается от «Изречений» по стилю. В первую очередь обращает на себя внимание, что здесь «монолог зачастую значительно превалирует над диалогом, диалогу же в этом случае отведена вспомогательная роль – он движет тему вперед. Партнером Мэнцзы является либо правитель, в царство которого Мэнцзы прибыл с надеждой применить свое учение на практике, либо ученики, либо другие философы. Монолог Мэнцзы часто вводится словами: „Мэнцзы сказал…“. В этом памятнике довольно значительное место занимают повествование, исторические аналогии, цитаты, притчи, примеры и пр., с помощью чего Мэнцзы стремится представить свою мысль в доступной форме, поскольку, в отличие от Конфуция, он заботится об убедительности»[45].
Если Конфуций в большинстве случаев ведет беседы со своими учениками, то Мэнцзы обращается к более широкой и менее «подготовленной» аудитории. Он нередко оказывается в роли трибуна, который вещает перед Государем, желая разъяснить ему суть своего учения. Мэнцзы тонко чувствует психологию своего собеседника, обладая при этом удивительным ораторским талантом. Его речи поражают своей мягкостью и изяществом. В этом, безусловно, сказывается личность самого философа, которую невозможно спрятать за ретушью более поздней литературной обработки данного текста. Другое дело, что за те двести лет, что прошли со времени жизни Конфуция и были отмечены расцветом философских школ, существенно изменился и язык устного выступления. Едва ли стоит сомневаться, что был накоплен колоссальный багаж ораторского мастерства, который непосредственным образом отразился на речи мыслителей того времени и ее последующей записи. И дело здесь вовсе не в качественном изменении, а в эволюции стиля и его соответствии своему времени. Именно поэтому столь очевидны сходства в стиле языка памятников, современных «Мэнцзы», а именно «Чжуанцзы», «Цзочжуань» и «Речи царств», на которые не раз указывала в своих исследованиях Л.Д. Позднеева[46].
Обращает на себя внимание, что аргументация Мэнцзы в пользу конфуцианских добродетелей все больше основывается на универсальных чувственных категориях. Так, например, показателен следующий фрагмент памятника: «Все люди обладают состраданием – каждый, увидев, что ребенок сейчас упадет в колодец, испытывает чувство страха и острой жалости не потому, что тем он может вызвать дружбу родителей ребенка, не потому, что может приобрести славу среди друзей в селении, и не потому, что ему неприятен крик ребенка, и тому подобное. Отсюда заключаем, что кто не обладает чувством жалости – не человек; кто не имеет совести – не человек; кто не обладает уступчивостью – не человек; кто не чувствует, где правда, а где ложь,– не человек. Чувство жалости есть высшее выражение жэнь[47]; совесть есть высшее выражение справедливости; уступчивость есть высшее выражение ритуала; чувство правды и лжи есть высшее выражение ума. Обладание этими четырьмя высшими [чувствами] так же [естественно], как обладание четырьмя конечностями»[48]. Представление о естественной данности добродетели (дэ)– ее «природном» характере – традиционно отличало даосскую школу, которая, однако, понимала ее как «силу, царствующую в природе наравне с дао и сообщающую всему живому способность жить, не подвергаясь опасности порчи или безвременной гибели»[49]. Иными словами, она понималась даосами как «жизненная сила», а не как «моральное качество». Эта грань между школами никогда не пересекалась, однако то, что Мэн-цзы приписывает человеческим добродетелям некую природную свойственность, обращает на себя внимание. Также существенно, что именно Мэнцзы считается автором исторической трансформации в толковании понятия жэнь в сторону «гуманности» или «человеколюбия», имеющих универсальный смысл. «Основания для этого дает скорее Мэнцзы, чем Конфуций. В „Мэнцзы“ вообще заметно стремление усилить моральный аспект прежних конфуцианских добродетелей, основанных более на обязанностях»[50].
Известно, что наряду с философской прозой в Китае также развивается историческая проза. В IV–IIIвв. до н.э. возникают произведения, подробно описывающие события, которые в древних хрониках были лишь кратко упомянуты. Их основой является, по-видимому, материал, передававшийся в устной традиции. В их числе: «Речи царств» – о событиях X–Vвв. до н.э.; «Цзо чжуань» – развернутый комментарий к летописи царства Лу, охватывающий период с 722 по 463г. до н.э.; «Планы сражающихся царств» – о событиях V–IIIвв. до н.э. «Материал во всех трех произведениях располагается по царствам и в порядке хронологии. Между отдельными рассказами нет логической связи, они представляют собой цепь эпизодов, „нанизанных“ один на другой, как в философской прозе, но с той разницей, что они связаны хронологией. Основной формой изложения и здесь является прямая речь, воспроизводящая или имитирующая действительные диалоги и монологи известных исторических лиц. Благодаря изобилию речей действие в таком рассказе драматизируется, события выступают через призму восприятия их героями, через их речи и поступки. В результате, несмотря на явную установку на рассказ о событии, внимание концентрируется на людях, в них участвующих. Характерно, что именно в это время, как свидетельствуют источники, появляются первые жизнеописания, что с несомненностью свидетельствует о возникшем интересе к личности»[51].
О том же самом свидетельствует и появление шедевра исторической прозы – «Исторических записок» Сыма Цяня (145–86гг. до н.э.). Они состоят из нескольких разделов: «Основные записи» – история царских родов; «Хронологические таблицы»; «Восемь трактатов» – о торговле, ирригации, астрономии, календаре и других важных областях знания и практики древнего общества; «Наследственные дома» – история аристократических родов; «Жизнеописания» (самый большой раздел, занимающий семьдесят из ста тридцати глав)– биографии знаменитых людей древности. В жизнеописаниях «перед читателем проходит огромное число героев всех „сословий и состояний“ – от выдающихся государственных деятелей, знаменитых ораторов и поэтов до шутов и древних рыцарей „плаща и шпаги“. Всех этих героев Сыма Цянь наблюдает в бесчисленном количестве ситуаций, почти всегда экстремальных. Конечно, его герои действуют в рамках конфуцианских норм, ставших на то время общепринятыми нормами поведения, но Сыма Цянь акцентирует внимание на том, как индивидуально эти нормы реализуются в разных ситуациях и разными людьми. Он идет дальше этого и показывает, что настоящие герои не боятся противопоставить формальному исполнению долга поступки, которые с точки зрения общепринятой морали являются преступлением против нее. Хотя внешне и в этих случаях речь идет о старых конфуцианских добродетелях, на самом деле Сыма Цянь пересматривает этический идеал, делая на этом пути много открытий, которыми воспользуется последующая литература»[52].
По мнению Л.Е. Померанцевой, отдельные части этого произведения являются элементами сложной художественной системы. «Все огромное количество записей и документов Сыма Цянь систематизировал и организовал в единое целое, пронизанное авторской мыслью, заключил в стройные композиционные рамки, способствующие прояснению авторского замысла»[53]. В разделе «Жизнеописания» биографии героев «соотнесены друг с другом и, только обнаружив смысл соотнесенности, можно уяснить замысел автора и зачастую логичность его вывода в конце главы. Биографический материал излагается как цепь эпизодов, также соединенных между собой хронологическими пометами. Сыма Цянь не все рассказывает, что он знает о герое, а отбирает материал в соответствии с общим замыслом главы»[54]. Заключается глава концовкой – «Я, Придворный Историограф, так скажу…» – в которой автор формулирует свой вывод, относящийся к главе в целом. «В концовке Сыма Цянь, с одной стороны, поучает, поскольку в его сознании история должна учить, а с другой – оценивает поступки героев, порой решительно расходясь с оценками непререкаемых авторитетов, включая самого Конфуция. Очевидно, что через концовки автор выражает свое собственное нравственное кредо. Они чрезвычайно эмоциональны – в них гнев, сочувствие, восхищение, скорбь»[55]. Большое Послесловие (сюй), которым завершаются «Исторические записки», является своего рода большим заключительным комментарием ко всему труду. В нем подводятся итоги тем, звучавших на протяжении всей летописи, суммируется то, о чем автор думал, наблюдая за судьбами своих героев. Помимо большого Послесловия Сыма Цянь пишет также короткие сюй — предисловия и послесловия к отдельным разделам и главам. «Результатом является то, что Послесловие к труду в целом не воспринимается как нечто отдельное по отношению ко всему тексту: оно включено в один непрерывающийся лирический монолог, который звучит на протяжении всего этого огромного произведения. Весь текст пронизан прямыми вторжениями автора в повествование, замечаниями по ходу дела, риторическими вопросами, восклицаниями и пр., которые в сумме и создают впечатление длящегося монолога. Автор ощущается постоянно присутствующим действующим лицом, то выходящим на первый план, то отступающим за кулисы, но никогда не покидающим сцену действия»[56].
Великая эпоха рождает великий замысел. В Послесловии к «Историческим запискам» Сыма Цянь упоминает о завещании своего отца Сыма Таня – также придворного историографа,– который увещевает сына «продолжить не просто дело предков, а встать вровень с Чжоу-гуном, восславившим некогда добродетели чжоуских правителей (XIв. до н.э.) и тем заложившим основы конфуцианской веры; с Конфуцием, через пятьсот лет после Чжоу-гуна возродившим древние установления и создавшим хронику „Чуньцю“, на которую и поныне равняются ученые»[57]. Иными словами, «по прошествии пятисот лет после Чжоу-гуна в мир явился Конфуций; теперь после смерти Конфуция прошло еще пятьсот лет, и мир нуждается в новом Конфуции»[58], точнее сказать, в новой «Чуньцю». Развернуть грандиозное историческое полотно и дать нравственную оценку событиям и людям, в них участвующим,– вот истинная задача «Исторических записок». Представляется, что дело здесь даже не в личности Сыма Цяня как историка или писателя, а в самой возможности субъективного взгляда на историю, выработанного его временем. Тот самый дискретный авторский субъект, который столь драматичным образом рождается в поэзии Цюй Юаня, оказывается реинкарнирован здесь в небезразличного наблюдателя за судьбами мира – и за своей собственной в том числе. Он примеряет на себя судьбы своих героев, и каждый герой – он сам. Отличается только стиль композиции: «Если Цюй Юань воспроизводит в поэме „Лисао“ автобиографическую канву и создает на ее основе лиро-эпическую поэму, то Сыма Цянь, отнеся свою автобиографию в Послесловие, тем самым оставляет скрытым автобиографический момент, а лирический пафос своих отступлений относит как бы к философскому осмыслению вереницы исторических лиц и событий, к „чужим“ биографиям»[59].
Помещая повествование об отце, а также свою собственную биографию в большое Послесловие, Сыма Цянь буквально вписывает себя в историю. Здесь находит отражение и драма его личной судьбы: известно, что за поддержку полководца Ли Лина, обвиненного в преступлении, историк был подвержен одному из наиболее позорных видов казни – оскоплению. По кодексу чести аристократа, ему следовало бы покончить с собой. Но Сыма Цянь не делает этого, и данное обстоятельство требует разъяснения. Л.Е. Померанцева обращается к письму Сыма Цяня к Жэнь Аню, его близкому другу, находящемуся в тюрьме в ожидании казни. В нем Сыма Цянь сообщает, что решил остаться в живых, дабы завершить свой грандиозный исторический труд: «Не кончил я еще черновика, как вдруг беда случилась эта. Мне стало жаль, что я не кончил дела, и вот я претерпел ужаснейшую кару, ничем не выражая недовольства»[60]. Таким образом, можно заключить, что труд свой Сыма Цянь рассматривает как искупление «вины» перед предками и потомками и восстановление достоинства в собственных глазах. Более того, «Сыма Цянь поднимает из прошлого ряд никем не оспариваемых героев, образцов добродетели – Вэньвана, Конфуция, Цзо Цюмина, Цюй Юаня и др. И что же? Все они в свое время претерпели неменьший позор, жили в нем, и никто из них не покончил с собой – потому ли, что они были трусами? А что до славы, то их имена живут до сих пор среди потомков, потому что славны они мудростью, завещанной потомкам в слове: „Все эти люди были переполнены склубившимся в них чувством, но не могли в жизнь провести ту правду, что в их душе жила. Поэтому они нам исповедали прошедшие дела и мысль о будущих людях“. Таким образом, слава и позор, утверждает Сыма Цянь, проверяются временем: „Все дело в том,– говорит он в концовке,– что смерти день придет, и только лишь тогда, кто прав, кто виноват, определится ясно“»[61]. Последнее утверждение чрезвычайно важно, поскольку оно означает, что историк выносит Истину за пределы своего времени. Он оставляет ее на усмотрение потомкам, а свою задачу видит в том, чтобы предельно честно выразить себя в слове. Л.Е. Померанцева считает, что «здесь у Сыма Цяня мы впервые встречаем уже некоторый итог древности – представление о том, что великие произведения создаются из потребности выразить себя»[62].
Со временем представление о литературном творчестве как о способе «выразить себя» в Китае будет только укрепляться. Об этом мы можем судить из «Письма Бо Цзюйи к Юань Чжэню», вошедшего в настоящий сборник в переводе Л.Е. Померанцевой. Оно относится к эпохе Тан и представляет собой ценный историко-литературный документ. «Письмо воссоздает культурный контекст „золотой поры“ китайской истории – эпохи Тан (618–907), причем не в каком-то общем разрезе, а как бы изнутри, на примере частной и общественной жизни одного из выдающихся поэтов Китая. В живом воплощении предстают как поэт, так и его время»[63]. Данное письмо широко известно как литературный манифест большой группы литераторов, выступивших во главе с Бо Цзюйи (772–846) и Юань Чжэнем (779–831) за «возвращения к древности» в поэзии, что в действительности явилось движением за ее обновление. Бо Цзюйи рассуждает о смысле литературного творчества, отталкиваясь от традиционных представлений о том, что «мудрецы приводят Поднебесную к миру, воздействуя на человеческие сердца»[64], иными словами, что слово, будь оно добродетельно, имеет способность трансформировать мир, и в этом заключается смысл и назначение поэзии. Он ссылается на древнейшие песни «Шицзина» как на высший нравственный образец и утверждает, что «в те времена того, кто говорил, не обвиняли в преступлении; тому, кто слушал, сказанное было достаточно для вразумления, потому что и говорившие и слушавшие были озабочены одним»[65]. Слово, по мнению Бо Цзюйи, способно изобличить порок и прославить добродетель и в том случае, если правители и народ заняты общим делом, приводить в гармонию человеческий социум.
Со временем, однако, поэты стали отходить от высокого образца «Книги песен» – Бо Цзюйи приводит длинный список знаменитостей от Се Линъюня до Ду Фу, которых укоряет в том, что их поэзия, за редким исключением, отдалилась от «шести родов и четырех начал»[66], утратив свое первоначальное предназначение. Поэтому выход видится ему в том, чтобы вернуться к истокам – «к древности» – и возродить в поэзии дух общественного служения. «Литература должна служить своему времени, откликаться на жизнь и события современности»[67] – так формулирует Бо Цзюйи свое кредо. Собственные усилия в данном направлении, однако, как явствует из письма, приводят его к неудаче, поскольку современники не приемлют обличительный пафос его стихотворений, а сам он попадает в опалу. Находясь в ссылке в невысоком ранге «помощника начальника округа», он – бывший Императорский цензор (!)– сообщает другу: «Вот и я, „стремясь облагодетельствовать Поднебесную“, занимаюсь самосовершенствованием»[68]. Здесь он пародирует известную фразу из «Мэнцзы»: «В бедности совершенствуй себя, в достатке облагодетельствуй Поднебесную»[69]. Все, что ему остается, это целиком отдаться литературному творчеству. Он увенчивает свое письмо фразой, в которой придает поэзии высшее экзистенциальное значение: «Вместе с другом любоваться прекрасным пейзажем и пировать в сезон цветения, или лунной ночью посидеть за вином, читая стихи, забыв о приближении старости,– даже счастье впрячь феникса в упряжку и журавля в колесницу[70], и отправиться в путешествие на Пэнлай и Инчжоу не может быть выше! Кому это доступно кроме святых? Вэйчжи! Вэйчжи! Вот почему нам безразлично все, что имеет отношение к телу, мы отказываемся от славы, положения, равнодушны к благополучию – все благодаря этому»[71].
Но и поэзия, по мнению Бо Цзюйи, представляет собой загадку. Его интересует проблема подлинного прочтения своего творчества аудиторией. Он пишет: «Ныне из моих стихов народ знает лишь те, что принадлежат к „Разному“, да „Вечную печаль“. Но то, что нравится современникам, я вовсе не ценю»[72]. Бо Цзюйи констатирует, что по-настоящему его понимают всего лишь несколько друзей-поэтов, а более всех – Юань Чжэнь. В известной степени и этого оказывается достаточно, ведь круг подлинных ценителей не может быть чрезвычайно широк. Он служит Мастеру «камертоном», по которому тот может определить чистоту своего звука: «Я как-то уже говорил: все, кто пишет, думают, что все написанное ими хорошо, и не могут решиться на то, чтобы что-нибудь урезать, убавить. Самому трудно судить, что лучше, что хуже. Нужно, чтобы кто-то из друзей внес беспристрастную оценку, все взвесил и отобрал необходимое, с тем чтобы сложное и простое, должное и недолжное – все обрело свою меру»[73]. Очевидно, что речь идет о чем-то близком к литературной критике. Литература осознается здесь как явление, имеющее объективный характер. Ее реальность рождается в сознании многих людей – как современников, так и потомков. Именно поэтому, выражая признательность другу, Бо Цзюйи восклицает: «Однако через тысячу лет кто узнает, что не было равных Вам в понимании моих стихов?»[74].
Возможно, этот вопрос так и остался бы риторическим, если бы не было тех, кто сумел сквозь века проникнуть в мир поэзии Бо Цзюйи, его времени и китайской литературной традиции. Перед ними мы низко склоняем голову. Лариса Евгеньевна Померанцева, безусловно, в их числе. Она была одним из тех редких специалистов, кто умел слышать голос китайской литературы древности и средневековья в его подлинном, оригинальном звучании. Ее переводы отличают изысканная точность и неукрашенность, и это делает их академическими и художественными одновременно. В этой связи научная биография Л.Е. Померанцевой, а также время, на которое приходятся основные годы ее научного творчества, представляют для нас немалый интерес. Она родилась в Москве 12 августа 1938 г. Ее предки по линии отца в нескольких поколениях были священниками. Дед – Дмитрий Ильич Померанцев (1850–1898) – в течение 18 лет служил в церкви Феодора Студита у Никитских ворот. Среди его прихожан было немало студентов и преподавателей Московского университета. Он был высокообразованным человеком с широким кругом интересов, тяготел к науке и, несмотря на священнический сан, участвовал в диспутах среди интеллектуалов своего времени. Отец – Евгений Дмитриевич Померанцев (1886–1971) – проходил обучение сначала в Строгановском художественно-промышленном училище, а затем на юридическом факультете Московского университета, но не окончил ни того ни другого. Он был увлеченным библиофилом и до революции владел публичной библиотекой, которая называлась «Новая литература». Она располагалась на Большой Никитской напротив Московской консерватории и была популярна среди музыкантов и студентов Московского университета. При советской власти Евгений Дмитриевич трудился коммерческим директором Российского театрального общества (РТО), был арестован в 1932 г., вернулся из заключения в 1936 г., в результате чего был лишен права проживания в Москве и долгие годы встречался с семьей полулегально. Мать Л.Е. Померанцевой – Серафима Алексеевна Титова (1896–1967) – родом из г. Мосальска, по образованию сельский учитель, до войны работала воспитательницей детского дома, а затем связистом на Московском почтамте.
В послевоенные годы, уже будучи ученицей старших классов, Л.Е. Померанцева впервые знакомится с восточной литературой. В то время в Москве активно издавались книги Рабиндраната Тагора, которые пользовались большой популярностью: «Рассказы» (1955)[75], «Сочинения в 8 томах» (1956), «Письма о России» (1956), «Крушение» (1956), «Последняя поэма» (1956), «Берег Бибхи» (1956), «Гора» (1956), «Дом и мир» (1956). Прочитав одну из этих книг, Л.Е. Померанцева почувствовала призыв Востока. За Тагором последовали и другие индийские классики. Увлекаясь Индией, она вовсе не рассматривала востоковедение как специальность. Скорее в том был знак ее времени: восточная литература становилась более доступна и более широко представлена, что оказывало влияние на выбор читателя. Тогда же в издательстве «Молодая гвардия» осуществлялось издание художественных биографий, выходивших в популярной серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). Научным редактором серии ЖЗЛ была Галина Евгеньевна Померанцева (старшая сестра Л.Е. Померанцевой), а одним из ее авторов, готовившим издание книги «Лу Синь», – Любовь Дмитриевна Позднеева, которая незадолго до этого защитила докторскую диссертацию по творчеству этого писателя. В то время отношения между автором и редактором могли быть довольно близкими, что предполагало походы в гости друг к другу и совместные бдения над работой до глубокой ночи. Именно так однажды в гостях у Померанцевых – занимаясь Лу Синем – Л.Д. Позднеева впервые познакомилась со своей будущей ученицей.
Вскоре после этого Л.Е. Померанцева становится абитуриенткой журфака МГУ, проваливается на вступительных экзаменах и устраивается на работу в московскую типографию. Проработав в типографии около года и как следует подготовившись к экзаменам, Л.Е. Померанцева успешно поступает на русское отделение филфака МГУ. Она увлекается творчеством Л.Н. Толстого и совсем не думает о карьере востоковеда. Более того, после создания в 1956г. Института восточных языков (ИВЯ) востоковедение в буквальном смысле «выехало» с филфака, оказавшись как никогда далеко. Кафедру китайской филологии новосозданного ИВЯ возглавила Л.Д. Позднеева. Она решает пригласить Л.Е. Померанцеву на «свою» кафедру в качестве лаборанта. Учебу же Ларисы на русском отделении филфака Любовь Дмитриевна считала вовсе не препятствием этому, а скорее наоборот – большим преимуществом. Лаборантке вменялось в качестве условия работы на кафедре факультативное (!) изучение китайского языка. Это создавало уникальную – и по сей день – ситуацию, когда студентка русского отделения, проходившая полноценную подготовку на филфаке по всем «западным» дисциплинам, оказалась в самой требовательной востоковедческой среде. Благодаря регулярным занятиям с Е.И. Рождественской[76], предложившей Л.Е. Померанцевой как можно раньше перейти от учебника к разбору оригинальных текстов, в изучении китайского был достигнут необходимый прогресс. В связи с этим работа на кафедре стала доставлять Ларисе Евгеньевне еще большее удовольствие. В 1958 г. Л.Д. Позднеева получает звание профессора и становится первой в истории отечественной науки профессором-китаеведом женщиной. Находясь под ее огромным личным и профессиональным обаянием, Л.Е. Померанцева принимает решение подать заявление о переводе с филфака на третий курс китайского отделения ИВЯ. Решением ректора МГУ И.Г. Петровского данный перевод был одобрен с условием досдачи (титаническими усилиями) недостающих востоковедных дисциплин.
Окончив ИВЯ при МГУ в 1964г., Л.Е. Померанцева поступает на кафедру китайской филологии в качестве преподавателя, а затем аспиранта. Еще за год до окончания ИВЯ, стажируясь в Пекинском университете (1962–1963), она работает над уже известной темой своей диссертации «„Хуайнаньцзы“ – древнекитайский памятник IIв. до н.э.». В Пекине ей представляется уникальная возможность поработать над текстом «Хуайнаньцзы» с китайским специалистом, что позволило «из первых рук» составить представление о подходах китайской филологической школы к прочтению собственной классики. В качестве аспиранта она принимает участие в составлении учебников по восточной литературе ИСАА при МГУ, являясь автором двух глав: «Народное творчество. Клерикальная литература»[77], а также «Народная песня. Ораторское искусство»[78]. Получив научную степень кандидата филологических наук в 1972г., Л.Е. Померанцева публикует монографию «Поздние даосы о природе, обществе и искусстве („Хуайнаньцзы“ – IIв. до н.э.)»[79], основанную на материалах своей работы. Она становится доцентом кафедры китайской филологии ИСАА при МГУ (1988г.), старшим научным сотрудником (1991г.), а затем заслуженным научным сотрудником Московского университета (1998г.). Л.Е. Померанцева проработала преподавателем кафедры китайской филологии более 40 лет, была бессменным и горячо любимым лектором курса «Литература древнего Китая». В качестве научного руководителя аспирантуры ИСАА при МГУ Л.Е. Померанцева воспитала не одно поколение китаеведов-филологов, включая автора этих строк. С нею связаны воспоминания о первых переводах с классического китайского языка (вэньянь) и первых курсовых работах. Она была трепетным, влюбленным в свое дело ученым, искренне переживавшим за успехи и неудачи своих учеников, в чем заключался один из секретов ее огромного преподавательского обаяния.