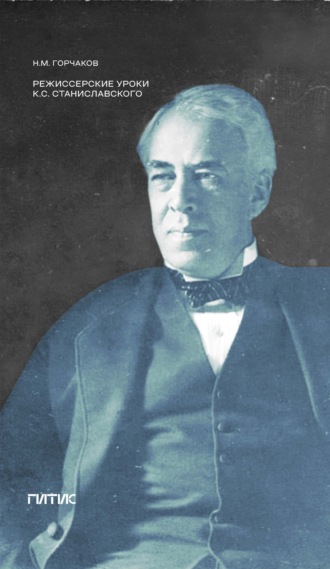
Полная версия
Режиссерские уроки К. С. Станиславского
Все замолкло.
Очень серьезно и с большим волнением произнес Качалов перефразированное обращение Гаева: «Многоуважаемый Художественный театр! Приветствую твое существование, которое вот уже более двадцати пяти лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение этих двадцати пяти лет, поддерживая в поколениях бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Обещаем и впредь служить тебе и нашей прекрасной Родине так же честно, страстно, целеустремленно!»
Эта полная глубокого смысла речь Качалова была встречена овацией всех присутствующих. В его выступлении прозвучали те мысли и надежды, которыми жил в те дни весь театр: и «старики» его, и молодежь.
Встреча принимала все более дружественный, теплый характер. Немирович-Данченко и Станиславский по фамилиям вызывали представителей молодежи, знакомили их с Качаловым и Книппер-Чеховой. Молодые актеры с громадным подъемом читали им отрывки из Горького, Чехова, Лермонтова, Пушкина, Грибоедова.
А зал в полнейшей тишине прослушивал эти небольшие «дебюты» будущих артистов, представителей нового поколения МХАТ.
Неспроста устраивали такие «встречи» молодежи и основного ядра труппы К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко. Они считали, что в такой творческой форме гораздо ближе, искренней происходит подлинное знакомство и сближение великолепных в своем зрелом мастерстве артистов-«стариков» МХАТ с молодой порослью его студий.
Благодаря этим встречам и тем художественно-литературным «понедельникам», которые были организованы руководителями театра и были посвящены творчеству И. М. Москвина, В. И. Качалова, О. Л. Книппер-Чеховой, В. В. Лужского и Л. М. Леонидова, а также показу отрывков из школьных работ молодежи, органически сплачивалась его новая труппа.
Воспитывая молодых актеров, К. С. Станиславский требовал, чтобы вся молодежь театра присутствовала на больших ответственных репетициях, в которых были заняты актеры всех поколений, так как хотел, чтобы вся труппа овладела единым методом работы над ролью, над пьесой.
Эти репетиции были для нас замечательными уроками, на которых мы могли наблюдать, как Станиславский с большой настойчивостью воплощал свой режиссерский замысел в конкретные действия актеров.
Ставя перед исполнителями в начале репетиции определенную задачу, он затем искал отношения друг к другу персонажей пьесы, отношения их всех к событию, стремился точно определить и «воспитать», как он говорил, в актере черты характера, присущие его сценическому образу.
В этой работе он был одинаково требователен как к молодежи, так и к актерам старшего поколения МХАТ.
На репетиции «Ревизора»
Осенью 1924 года на одной из таких репетиций нам пришлось впервые увидеть М. М. Тарханова, брата И. М. Москвина, приглашенного во время заграничной поездки в труппу театра. К. С. назначил репетицию первого акта «Ревизора», в котором М. М. Тарханову была поручена роль Хлопова.
Репетировали еще без грима и без костюмов. Перед началом репетиции, обращаясь к актерам, Константин Сергеевич сказал:
– Обычно «Ревизор» начинают так: открывается занавес, и чиновники бродят по пустому залу в доме городничего, как сонные мухи. Они ничего не знают о том, зачем их вызвал к себе городничий. Так игралась до сих пор эта сцена и у нас. Мне кажется это неверным. Да, они не знают, что в их городишко приехало некое «инкогнито», но с той секунды, как в этот день к каждому из них спозаранку заявился Держиморда и передал приказ срочно, безотлагательно прибыть к городничему, екнуло сердце Ляпкина-Тяпкина, Земляники, Гибнера и других. Грехов больших и малых числилось за каждым достаточно, и недоброе предчувствие овладело ими.
«Ох, что‐то стряслось», – думал такой чиновник, входя в дом городничего. А увидев в зале, что не один он – Ляпкин-Тяпкин – вызван, а все «заправилы», вся чиновничья знать, струхнул он вдвое.
Городничего нет. Анна Андреевна, которая их встретила, объяснить им ничего не объяснила, но была взволнована и таинственна. Тревога все больше и больше овладевает ими, хотя друг перед другом они стараются скрыть ее.
Словом, не размагниченные, а настороженные, полные мрачных предчувствий встречают они Антона Антоновича. И тогда его сообщение падает на достаточно хорошо подготовленную почву и начало пьесы получает совсем другой ритм. А зритель сразу поймет размер случившегося «происшествия».
Ждите городничего, внутренне волнуясь. Ищите ритм напряженного внимания, тревожного ожидания: что‐то сейчас произойдет!
Прошу всех на выход.
Актеры поднялись на сцену и старались в паузе ожиданий перед выходом городничего добросовестнейшим образом выполнить задание К. С.
Но и пауза, и выход городничего к ожидавшим его чиновникам не ладились. Константин Сергеевич предложил чиновникам выходить вместе с городничим. Как будто они ждали его в зале и, встретив там, всей компанией сопровождают в кабинет, запирают за собой двери, проверяют, чтобы их никто не подслушал. Затем уже идет известное сообщение городничего: «Я пригласил вас, господа…» и т. д.
Городничему – И. М. Москвину этот этюд многое дал, но чиновники, как казалось Станиславскому, не находили того нужного ритма и самочувствия, о котором он рассказал перед началом репетиции. Тогда К. С. предложил каждому отдельно проделать такую задачу: войти в кабинет на тайное совещание. Москвин, а за ним Леонидов (Ляпкин-Тяпкин), Лужский (Земляника), Кедров (Гибнер) друг за другом появлялись в комнате озабоченные, недоумевающие… Но и эти импровизированные «выхода» не удовлетворяли Станиславского в тот день. К актерам на сцену из зрительного зала часто летело знаменитое «не верю!» Станиславского. Все казалось ему неоправданным, не насыщенным жизнью, хотя актеры всемерно старались выполнять каждое его замечание.
Наступила очередь выходить на сцену и Тарханову – Хлопову, последнему из чиновников. Мы, сидевшие в зале, понимали, что после неудачных в эту репетицию «выходов» чиновников Тарханов, вероятно, волнуется, ожидая встречи со строгим режиссером.
Однако Тарханов вышел на сцену в очень энергичном ритме, очевидно, с твердым намерением ярким исполнением задачи преодолеть все возможные возражения режиссера.
– Простите, – остановил его Станиславский, – почему вы так торопливо вышли, Михаил Михайлович?
– Лука Лукич всегда немного опаздывает, Константин Сергеевич, – отвечал Тарханов, – а потом старается наверстать потерянное, бывают такие характеры…
– Ну что же, очень может быть, – отвечал ему из зала К. С. Ритм выхода Тарханова ему, очевидно, понравился.
В течение следующих двух – трех минут Станиславский никого не останавливал, и мы уже начали надеяться, что в ходе репетиции произошел перелом и Тарханов и остальные исполнители верно нашли задачи, которых требовал сегодня Константин Сергеевич от них.
Но почти у «финиша» небольшой сцены Хлопова из зала послышался несколько нарочито мягкий голос Станиславского:
– Михаил Михайлович, простите, что я вас останавливаю. Но я вам не верю! По-моему, вы стараетесь играть сейчас на сцене не для Хлопова, не для выполнения его задачи по сюжету пьесы, а для меня, для режиссера, чтобы я не сердился, не заставил вас всех повторить еще раз сцену. Как вы полагаете?
М. М. Тарханов. Вы правы, Константин Сергеевич, я играл для вас…
К. С. Очень рад, что вы сами это чувствуете. В таком случае попрошу всех еще раз выйти. Сыграйте, пожалуйста, эту сцену по сквозному действию сюжета пьесы, по сквозному действию всех чиновников, в том числе и Хлопова, ради сверхзадачи Гоголя… Михаил Михайлович, вы ее знаете, помните?
М. М. Тарханов. Как будто знаю…
К. С. Прошу всех еще раз повторить эту сцену.
Все исполнители удалились за кулисы. Мы, сидевшие в зале, заволновались еще больше: такие репетиции были всегда самым тяжелым испытанием для всех актеров МХАТ. Они требовали большой выдержки, уменья проникнуть в самую суть требований Станиславского, фантазии и техники.
Они были очень полезны, так как Станиславский в эти часы видел все достоинства и недостатки актера как бы в увеличительное стекло и, делая замечания, заставлял по многу раз повторять одно и то же место, раскрывал, указывал актеру все особенности его индивидуальности, определял ему метод работы над собой и над ролью. Но об этом легко писать, а быть в такие часы на сцене актером нелегко. На всю жизнь обычно актеры запоминали такие репетиции и, когда забывались горести и неудачи этих часов, были бесконечно благодарны Станиславскому за его неистощимую настойчивость и справедливую требовательность к ним. Ведь именно эти часы занятий со Станиславским создавали актера, давали творческий толчок его мастерству, развивали искусство МХАТ в целом.
Снова появились на сцене все актеры, а за ними – и Тарханов. Тон его реплик был внутренне гораздо более насыщенным; однако физические действия его были более скованными, чем у остальных исполнителей. Станиславский дал сыграть всю сцену, затем попросил Тарханова сойти к нему в зрительный зал, посадил его рядом с собой за режиссерский столик и в течение нескольких минут о чем‐то с ним оживленно говорил.
Это был один из обычных приемов работы К. С. с актером. Мы не всегда знали, о чем беседовали в такие минуты Станиславский и актер. Вероятно, прочертив еще раз исполнителю его задачу по данному событию пьесы, еще раз собрав его внимание на отношениях его с партнерами, К. С. подсказывал ему какое‐нибудь «приспособление» к репетировавшейся сцене.
Но результат таких «индивидуальных» пятиминутных разговоров был всегда положительный: актер освобождался от внутреннего и внешнего напряжения и устанавливал для себя какую‐то особенную, творческую близость с режиссером.
Обычно после таких разговоров опять следовало повторение сцены.
Так было и на этот раз.
– Попрошу еще раз повторить все начало акта, – раздался голос Станиславского.
И снова Михаил Михайлович вышел на сцену. Но после первой же реплики Хлопова Тарханов прервал свою сцену и, обернувшись лицом к залу, сказал:
– Константин Сергеевич, позвольте еще раз начать. Не верю себе…
– Прошу вас, Михаил Михайлович, очень рад, что «внутренний контролер» заработал у вас сам, исполняя мою функцию, – раздался в ответ веселый голос Станиславского.
И в следующие несколько минут на наших глазах произошло интереснейшее «перерождение» репетировав-шейся сцены.
В «кабинет» быстрыми шагами вошел Москвин – городничий, вытирая фуляровым платком голову, в изнеможении опустился на диван в углу. В неприкрытую дверь высунулись, заглядывая в комнату, головы чиновников. Необычайно тревожное любопытство, смешанное с какой‐то настороженностью, было написано на их лицах. У Тарханова, который на этот раз появился во главе группы, был такой наивно-беспомощный вид, что в зрительном зале все невольно засмеялись. Улыбнулся и довольный Станиславский. По знаку городничего чиновники приблизились к нему и как‐то робко присели друг за другом на краю большого дивана против Сквозник-Дмухановского. Глаза их были устремлены, как говорится, прямо в рот начальству. Первым против Москвина сидел бочком Тарханов, за ним плечо к плечу – Лужский, Кедров; замыкал эту цепочку фигур наиболее высокий из них – Л. М. Леонидов. Внимание их к словам городничего было беспредельно. Каждое его слово отражалось на лицах, как повторение в четырех зеркалах с различной поверхностью.
Это было сценически очень выразительно, вполне оправдано ситуацией и отношениями, которые предполагал Гоголь между чиновниками и городничим.
На этот раз Тарханов без всякого напряжения сказал свое знаменитое «инкогнито». Он даже не произнес это слово, а как‐то беспомощно вздохнул им: «Дожили, докатились!» – таков был «подтекст» его реплики. И все смотревшие репетицию из зала снова засмеялись. Смеялся и Константин Сергеевич. А вся группа чиновников, примостившаяся на диване за Тархановым, подхватила его горестный тон, и каждый на свой лад повторял его вздох.
Получилось очень выразительно и правдиво. Дальше вся сцена пошла в этом ключе. Слова городничего, обращение его к тому или другому чиновнику переживались всей группой, равно как и ответы любого чиновника городничему поддерживались всеми его сотоварищами. Вся сцена ожила, наполнилась совершенно неожиданными интонациями, паузами, восклицаниями, перегляд-кой чиновников, мимическими моментами. Очень забавен был Кедров – Гибнер, у которого по роли текста не было, но который зато имел полное право, как это сказано и в ремарке Гоголя, издавать звуки, «отчасти похожие на букву „и“ и несколько на „е“».
Вел всю сцену Тарханов и делал это необычайно мягко, с громадным чувством художественного такта, очень естественно реагируя на слова городничего и реплики своих партнеров. Когда же дело дошло до прямого обращения городничего к Луке Лукичу и Москвин, произнося знаменитое «насчет учителей», которые не могут «взошедши на кафедру, не сделать гримасу. Вот этак…», изобразил на своем лице, как того требует Гоголь, соответствующую гримасу, то Тарханов непроизвольно, как бы подтверждая его слова, ответил ему со своей стороны тоже гримасой. Эффект получился поистине столь «гоголевский», что Станиславский громко сказал: «Браво!»
Сцена закончилась обращением Станиславского к актерам с просьбой запомнить внутренний и внешний рисунок ее, а также то самочувствие и те задачи, с которыми они начали ее репетировать.
– Вас, Михаил Михайлович, – обратился К. С. Станиславский к Тарханову, – благодарю отдельно. Преодолев естественное беспокойство актера, впервые репетирующего в новой для него обстановке, вы нашли «ключ», или, как мы говорим, новое «зерно», этой труднейшей сцены и не побоялись повести за собой своих товарищей, создавая острый, выразительный, чисто гоголевский рисунок взаимоотношений городничего с его подчиненными, оставаясь в то же время в границах той художественной правды, которая составляет всегда основу всякого искусства.
Так, подсказав актерам новое самочувствие в первой сцене «Ревизора», сумев помочь Тарханову освободиться от напряжения, Станиславский наглядно показал нам, каким художественным тактом следует обладать в равной мере и режиссеру, и актеру.
На этой репетиции Станиславский еще раз продемонстрировал свой выдающийся педагогический талант, раскрывающийся в многообразии его методов в работе с актерами, в той настойчивости и упорстве, с которыми он всегда добивался осуществления своих замыслов.
«Вперед, всегда вперед в искусстве» – этот свой неизменный принцип работы Станиславский и на этот раз блестяще продемонстрировал нам. Выход городничего к чиновникам зазвучал совсем по‐иному.
«Царь Федор Иоаннович»
К. С. Станиславского – режиссера основных постановок Московского Художественного театра – мы узнали особенно хорошо при возобновлении «Царя Федора Иоанновича».
К. С. собрал нас всех перед началом репетиций, подробно рассказал всю историю постановки «Царя Федора» в МХАТ и раскрыл нам очень глубоко и четко идейную сущность пьесы. Рассказал нам много об эпохе «Царя Федора», о крупных исторических событиях тех лет. От больших обобщений переходил иногда на частности – отдельные детали быта, обихода, костюма. Показал на самом себе, как надо носить боярскую «шубу», как закручиваться в длиннейший широкий пояс, как «играть» богато вышитым платком или отворотом кафтана, шитым золотом.
Эти репетиции с Константином Сергеевичем были одновременно и замечательными уроками актерского мастерства, и живой историей Художественного театра, его режиссуры, его особенной театральной этики.
– Нам никогда еще не удавалось как следует сыграть сцену в саду у Мстиславского, – сказал нам на первой же репетиции «Федора» Константин Сергеевич. – Я хочу еще раз попробовать с вами решить эту режиссерскую задачу.
У нас в этой картине никогда не получается сцена большого, сложного политического заговора бояр против Федора и Бориса Годунова. Мы всегда или перекрикивали в ней, – и тогда получался какой‐то ничем не оправданный мятеж, немыслимый в условиях со всех сторон открытого сада в центре Москвы, – или, наоборот, мы все «засыпали» в этой сцене, и ее острота пропадала. Между тем эта сцена держит последующие картины в пьесе. Без нее они менее драматичны и даже менее понятны. Написана она у А. К. Толстого хорошо. Текстовой материал невелик, но мысль автора прочерчена ярко, остро.
Я хочу вам предложить сыграть большой, массовый этюд к этой сцене, но не сегодня, а прямо на генеральной, и все репетиции готовиться к этому этюду.
Можно легко представить себе, с каким увлечением выслушали мы необычайное предложение Станиславского. Нам доверялось сыграть экспромтом на генеральной сложную, ответственную картину в замечательном спектакле МХАТ.
– Поясню, что я имею в виду, когда говорю об этюде, о подготовке к нему и о его исполнении прямо на сцене.
Пришел я к такому замыслу вот каким способом. Я стал думать: что такое заговор? Это постепенно накопляющееся количество событий, преследующих одну задачу. Но люди, участвующие в заговоре, чаще всего не знают друг друга, не знают всех нитей заговора, не знают дня и часа его осуществления.
Я предлагаю вам всем стать заговорщиками по отношению к этюду, который мы с вами решили сыграть на генеральной репетиции «Федора» через неделю.
Цель наша – доказать театру, что эта сцена может быть сыграна так, что вызовет аплодисменты зала. Судьей у нас будет Владимир Иванович, который, конечно, придет смотреть генеральную. Но мы сейчас дадим друг другу слово, как настоящие заговорщики, что никто ему не проговорится о том особом способе, которым мы будем готовиться к этой генеральной репетиции. Даете?
Дружный хор голосов отвечал Константину Сергеевичу. Собственно, уже в эту минуту Станиславский заложил в нас, участников сцены, «зерно» заговора, превратил нас в заговорщиков. Но, конечно, в те дни мы этого не сознавали. Мы просто были до предела увлечены задачей, поставленной перед нами Станиславским, да еще и его личным участием в ней.
– Теперь давайте сговоримся, – продолжал Константин Сергеевич, – что значит каждому из вас готовиться к заговору против Бориса и Федора?
Прежде всего вам всем надо отлично знать жизнь России того времени, ее бедствия и раздоры, структуру государственной власти. Вы должны знать систему престолонаследия, знать, что такое Углич, что там делается, почему наследник престола живет именно там, сколько ему лет.
Вы должны себе отчетливо представить, что произойдет в России, если царем в ней окажется малолетний Димитрий. Вы должны знать политический смысл действий Шуйских, а также их противников.
Об этом мы должны сговориться сегодня же, не теряя времени до завтра. К завтрашней репетиции каждый должен решить следующие вопросы:
Кто оказался прав после примирения: Борис или Иван Шуйский?
С каких пор я числюсь в сторонниках Шуйского?
Мое отношение к факту примирения.
Что, по моему мнению, нужно делать теперь, после примирения?
Что должен взять на себя Шуйский и как поделить власть с Борисом?
Какую должность хочу я сам получить и кто мой конкурент в этом?
Какие мне рисуются политические перспективы от примирения?
Чему я радуюсь и чего я опасаюсь?
Был ли я вчера на примирении и как отнесся к вызову во дворец? Был ли я в опале или нет?
Где был (если не во дворце) во время примирения?
Как узнал (кто мне сказал) о примирении, а когда узнал, что стал делать?
Кто меня позвал к Ивану Петровичу Шуйскому?
А для того, чтобы вы могли себе ответить на эти вопросы, вы должны ответить и на все вопросы биографии действующего лица, то есть:
Кто я (как зовут, прозвище, сколько мне лет, моя профессия, где служу, состав моей семьи, какой у меня характер)?
Где живу в Москве (нужно уметь нарисовать план своего дома и отдельно убранство своей комнаты)?
Как я провел вчерашний день и сегодняшний до вечера?
Кого я знаю среди присутствующих, в каких отношениях состою с ними?
После того как вы дадите себе ответ на все эти вопросы, мы с вами прочтем и разберем всю сцену в саду по тексту пьесы. Засим‐с, каждый из вас сговорится с двумя-тремя своими товарищами, как им держаться по отношению ко всем остальным. Таким образом, в общей массе образуются «кучки» – группы. С каждой «кучкой» я проведу отдельные занятия-разговоры. Мы установим в такой группе ход мысли каждого, отношение группы к тексту главных действующих лиц, к переломным моментам заговора. Установим мизансцены для каждой «кучки». Но соседние «кучки» не будут знать точно, о чем я буду говорить с данной «кучкой», и, как всегда бывает в настоящем заговоре, принуждены будут не только вести свою линию действия (которую я с ними установлю), но и очень внимательно следить за своими соседями, чтобы не попасть впросак, не сделать чего‐нибудь такого, чего не сделают соседи.
Это очень характерная черта заговорщиков – стремиться не отстать от соседа, но не хотеть самому быть инициатором, застрельщиком решительных действий. Один я, как режиссер заговора, буду знать мысли и действия каждого.
А на генеральной мы сразу все сыграем. Разумеется, что одну репетицию мы посвятим сговору текста главных действующих лиц этой сцены.
Хотите проделать такой опыт работы над народной сценой, которая нам никогда не удавалась?
Мы ответили горячим согласием, и Константин Сергеевич просил В. В. Лужского, прекрасного знатока русской истории, провести завтрашнюю репетицию-беседу об историческом и политическом положении России эпохи Грозного. Мне он поручил собрать все «анкеты» и провести беседы с исполнителями по их личным биографиям.
Сам же занялся с нами разбором и читкой текста сцены в саду.
В последующие дни он неуклонно следовал своему плану.
Допросил меня и В. В. Лужского о наших встречах с исполнителями. Просмотрел несколько анкет-биографий и остался ими доволен. Надо сказать, что все участвующие проявили большую настойчивость и работоспособность. За три дня они, насколько могли, расширили свои знания об эпохе, о характерах действующих лиц и постарались как можно глубже войти в пьесу.
Провел Константин Сергеевич и свои беседы с отдельными группами-«кучками» заговорщиков.
Я был почти на всех его встречах и поражался тому терпению, с которым он говорил об одних и тех же действиях с каждой «кучкой» и с какой бесконечной фантазией он изобретал для каждой группы заговорщиков индивидуальные задачи, которые вносили разные неожиданные оттенки в совместные действия заговорщиков.
Мне же он поручил и «технические», как он назвал, репетиции по соединению текста главных действующих лиц друг с другом. Участники «народной сцены» были заняты в этих репетициях, но по заданию Станиславского «скрывали» свои отношения к тексту действующих лиц.
Разрешено было только шептаться и переглядываться. Надо сказать, что и от такого приема решения массовой сцены картина зазвучала очень выразительно, и Константин Сергеевич остался доволен всей подготовкой, зайдя к нам на последнюю «техническую» репетицию.
На генеральной успех картины в саду был чрезвычайный. Все накопленные за неделю сдерживаемые страсти «заговорщиков» прорвались наружу и создали яркое, волнующее зрелище. Зал аплодировал картине: Владимир Иванович был искренне изумлен, а Константин Сергеевич был в восторге.
Такова была школа режиссуры, которую я начал проходить в год своего поступления в театр.
В ту же осень 1924 года мне пришлось получить особенно наглядный режиссерский урок от Станиславского на репетициях молодежного спектакля «Битва жизни». Верный своей системе воспитания «новой труппы» МХАТ в идейном, этическом и художественном единстве, Станиславский счел необходимым принять участие в постановке такой, в сущности, случайной для репертуарной линии МХАТ пьесы, как «Битва жизни».
Битва жизни
Молодость спектакля
В 1922 году, оканчивая школу при театре-студии имени Е. Б. Вахтангова, я взял повесть Ч. Диккенса «Битва жизни» для своей «дипломной» режиссерской работы.
Я сам инсценировал повесть и в 1923 году на старшем актерском курсе школы поставил свою инсценировку. Так как я одновременно вел этот курс по классу актерского мастерства, то почти все мои исполнители[8] были в то же время и моими учениками.
В декабре 1923 года «Битва жизни» была показана на школьной сцене театра-студии имени Е. Б. Вахтангова в небольшом помещении, вмещавшем немногим более ста человек зрителей, с зеркалом сцены в пять метров ширины и три с половиной высоты.
Этот школьный спектакль был хорошо встречен московской театральной общественностью и за первую половину 1924 года прошел больше пятидесяти раз. В этот же период его смотрел и одобрил Вл. И. Немирович-Данченко.

