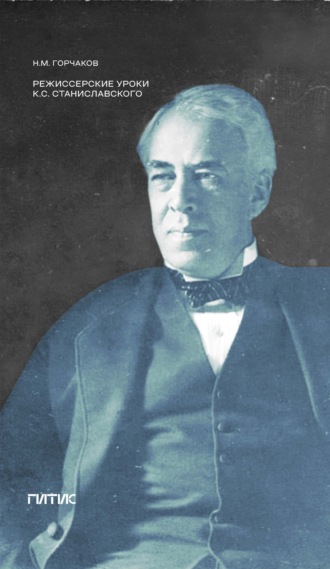
Полная версия
Режиссерские уроки К. С. Станиславского

Николай Михайлович Горчаков
Режиссерские уроки К. С. Станиславского
Беседы и записи репетиций
© Издательство ГИТИС, 2023
Мечта и завет
На репетициях Константин Сергеевич Станиславский часто называл «сверхзадачу» мечтой. «О чем мечтаете вы, о чем мечтает ваш персонаж?» – спрашивал он актеров. О каком театре мечтал Станиславский? Какой театральной мечте он посвятил свою жизнь? Какой завет он нам оставил? О каком театре мечтаем мы? Да и мечтаем ли мы, не слишком ли отяжелели для мечты, подымает ли она нас ввысь или мы уже не способны к полету? Много непростых вопросов возникает, когда размышляешь о том, как мы распорядились бесценным наследием Станиславского. Об этом наследии написана книга Николая Михайловича Горчакова.
И сама личность Станиславского, и его «система», из которой вышла вся современная методология актерского и режиссерского творчества и театральная педагогика, сегодня предстают перед нами в виде некого мифа.
Это красивый, однако, честно говоря, несколько поблекший со временем миф: величественная фигура седовласого старца, олимпийца, сосредоточенного и спокойного, и его не менее величественная, строгая «система».
Со всем тем, прямо скажем, само слово «система» несколько охлаждает желание серьезно заняться ею: ведь, казалось бы, нет ничего более скучного в искусстве, чем «система», – так считают многие и имеют для этого справедливые основания, прежде всего в своей лени, а потому не рискуют погрузиться в «систему» по-настоящему глубоко.
Миф заслоняет от нас подлинную натуру Станиславского, вечно устремленную вперед, полную исканий, блестящих открытий, горестных ошибок и великолепных творческих и – что исключительно важно – научных открытий.
В этом мифе затуманивается и уходит от реальности подлинная природа Станиславского – человека и художника, ревностного к самому себе, строгого, а иногда и беспощадного к другим, особенно к тем, к кому он применял презрительное словечко «каботины» и чье пребывание в театральном искусстве саркастически называл «каботинством». То есть к тем «деятелям» современного ему театра, которых, увы, именно сегодня расплодилось великое множество: на первом месте у них стоит исключительно собственное «я», в своем кругу они стремятся занять заметное и выгодное место, а ради этого способны пойти на художественные и идейные компромиссы.
Такие компромиссы, порою очень тяжелые, почти неизбежно ведут к окончательной потере собственного лица, когда, по словам Станиславского, главным становится любовь к себе, а не любовь к искусству, к театру – к делу, которое служит познанию природы человеческого бытия, облагораживает человека, возвышает его и вместе с ним находит пути к преодолении сложных, а иногда и трагических моментов его жизни.
Главное место в системе Станиславского занимает его учение о «сверхзадаче» художника театра, будь он актером, режиссером, театральным художником, или, как принято сегодня говорить, сценографом, композитором и так вплоть до технического работника сцены и театральных цехов.
Театр, который создал Станиславский, – не только собственно Московский Художественный общедоступный театр, а театр в целом, в котором преображенная в сценических формах жизнь человека предстает во всей ее полноте, во всех ее горестях и радостях и открывает человеку новые горизонты бытия и мышления, – был той мечтой, которая звала Станиславского, той целью, к которой он неуклонно шел.
Он шел к этой цели стремительно, исключительно энергично и плодотворно, иногда из последних сил, преодолевая различного рода преграды, непонимание соратников, давление внешних весьма и весьма тяжелых обстоятельств, как будто прекрасно понимал, что до конца он так и не успеет претворить в театре и педагогической театральной школе все им замышляемое, иными словами, воплотить свою мечту.
И Станиславский, и его «система», бывает, предстают сегодня только как факт прекрасного, но прошлого. Иногда по простоте душевной, а то и просто по глупости мы договариваемся до того, что в нынешний момент «система» несколько устарела. Как бы по протоколу, соблюдая обычай, но давно уже забыв, на какой, собственно, основе и почему этот обычай возник, мы обращаемся к «системе» и словно делаем реверанс давно существующему и уже, как кажется нам, устаревшему, но как‐то и сегодня могущему быть более или менее полезным делу давно прошедших лет.
Мы пребываем в глубоком, правда, ни на чем кроме собственного невежества не основанном убеждении, что сами мы ушли далеко вперед, и если что‐то из Станиславского и может нам сегодня пригодиться, то все равно это «что‐то» нуждается в существенной корректировке. В самом деле, мы прошли и модернизм, и постмодернизм, и метатеатр и вступили в пору театра «без истории» – как это все мог предвидеть патриарх сцены? Как будто в его время, особенно в пору начала работы над системой, не было ничего подобного. Было, и еще как было! То, что сегодня многими мыслится как открытие, новация, на самом деле оказывается давно пройденным, второпях позабытым этапом. Нет ничего хуже представления невежественных работников театра о том, что современность только потому и права, что она современность. Это так же неверно, как убеждение в том, что молодость всегда умнее, только потому что у нее свежее мозги. Эта милая свежесть зачастую означает всего-навсего отсутствие привычки к критическому мышлению и неспособность к непрерывному мыслительному процессу, с помощью которого человек ведет диалог с подобными себе и с миром.
Путь познания – тяжелый путь, а в сценическом искусстве он еще и физически нелегкий. Конечно, гораздо проще бывает принять на веру готовые, обычно внешне яркие и привлекательные клише, чем самому погрузиться в крайне трудную работу познания. Но только на этом пути возможны и творческие озарения, и художественные открытия. Если пойти этой дорогой – а для того, разумеется, нужны воля и чувство ответственности художника – то, несомненно, обнаружится, что не мы и не так называемое «современное» искусство впереди Станиславского, а он движется вперед, как Христос, идет впереди вооруженной толпы в заснеженной буранной поэме Александра Блока. Толпы, которая к нему не пришла, потому что не увидела.
Сегодня выглядит пророческим название замечательной статьи одного из самых преданных последователей Станиславского, режиссера и педагога, так верно воспринявшего и претворившего в своем творчестве заветы учителя, Георгия Александровича Товстоногова «Вперед, к Станиславскому!». Но, увы, не вперед мы ушли, а вбок и сильно вбок, и пасемся теперь на маргинальных полях, как верблюд в пустыне, с трудом прожевывая колючую жвачку так называемого «современного» искусства. Хорошо бы вспоминать время от времени слова Марины Цветаевой о том, что у каждой современности два хвоста: хвост новаторский и хвост реставраторский, и оба друг другу мешают. Можно добавить, что оба в конце концов закольцовываются, и тогда уже не разберешь, где один, а где другой.
Нет, именно – вперед, к Станиславскому!
«Мы длинной вереницей идем за Синей птицей» – эти слова песенки одного из самых знаменитых спектаклей Художественного театра «Синяя птица» М. Метерлинка, на котором воспитывались поколения мхатовских зрителей, должны были бы стать нашим девизом… Спектакля, который учил юного, да и не только юного зрителя мечтать.
Надо нам успевать за Станиславским, за его мечтой, а мы вместо этого создаем то одного, то другого театрального кумира, да еще и противопоставляем их Станиславскому и его учению.
Следует, наверное, сказать, что Станиславский не писал ни о какой «системе» и вообще не любил это слово. На протяжении всей своей жизни он занимался изучением законов психофизической активности актера на сцене и сделал в этой области ряд выдающихся художественных и научных открытий, последние до сей поры будоражат умы психологов и исследователей физиологии высшей нервной деятельности человека.
Отношение к «системе» (оставим это ставшее привычным название философского и художественного учения) только как к интересному набору тех или иных упражнений для развития актерской техники, без учета огромного мировоззренческого значения «системы», пренебрежение к ее идейной сущности – подобное, к сожалению распространенное, отношение к учению Станиславского нельзя назвать правильным, тем более, если мы имеем в виду актеров и режиссеров, особенно в период их пребывания в стенах учебного заведения. Неслучайно именно этот период – процесс познания профессии, обучения и овладения ее тайнами – считал самым важным этапом в жизни режиссера автор этой книги, один из верных и последовательных учеников и соратников Станиславского Н. М. Горчаков.
Надо добавить, что отношение к «системе» как к своего рода мифу формировалось приблизительно с конца двадцатых до середины пятидесятых годов прошлого века. Значительным событием, заставившим по-новому взглянуть на «систему», стала вышедшая в самом конце пятидесятых книга Марии Осиповны Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли», в которой подробно описывалось и анализировалось последнее великое открытие Станиславского.
До этого на протяжении многих лет учение Станиславского было заключено – помимо его воли, конечно, – в строгие, можно даже сказать, суровые рамки господствующей тогда марксистско-ленинской доктрины, а со стороны официальной эстетики – в не менее тесные рамки социалистического реализма. Даже великое искусство Художественного театра, несмотря на такие фантастические по художественной высоте спектакли, как «Три сестры» А. Чехова в постановке В. И. Немировича-Данченко 1940 года, не смогло победить в этой неравной борьбе. Постепенно «система» стала восприниматься как метод создания спектаклей исключительно в духе социалистического реализма – так сказать, в сценических формах самой жизни. Появилось мнение (его следы можно встретить до сих пор), что «система» сама по себе хоть и хороша, но работает исключительно в спектаклях бытовой психологии, а для мира условной, но яркой, острой, «фантастической» театральной формы не годится. Это абсолютная нелепость, но основания для этой нелепости были, хотя бы в практике того же Художественного театра в столь знаменитый, сколь и трагический период так называемой «бесконфликтности» в драматургии. Из системы была вытравлена ее духовная сущность, творческая смелость, дерзновение и полет. «У нас отрезали крылья!» – так говорил Алексей Дмитриевич Попов, великий ученик К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова.
Станиславский работал над фундаментальными законами физиологии актерского творчества в течение всей жизни. На этом пути его сопровождали соратники и ученики, по разным причинам покидавшие его и «уносившие» с собой тот этап работы Станиславского над «системой», который они застали, и многие из них считали именно эту фазу окончательной и в своей дальнейшей театральной и педагогической практике основывались на всего лишь промежуточных – для самого Станиславского, конечно, – стадиях, будучи при этом выдающимися театральными режиссерами и педагогами, достаточно вспомнить имена Михаила Чехова и Ричарда Болеславского. Станиславский же шел дальше, а его «система» претерпевала ряд очень существенных изменений. То, что мы сегодня называем «системой», представляет собой методологию, автором которой, безусловно, является Станиславский, однако ее полноценное становление не состоялось бы без трудов и исканий В. И. Немировича-Данченко и Е. Б. Вахтангова, великих людей театра, к которым также необходимо причислить Вс. Э. Мейерхольда, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, Г. А. Товстоногова и, конечно, замечательного советского режиссера, выдающегося театрального педагога и писателя Н. М. Горчакова. Он был одним из тех людей, кого воспитали Станиславский, Немирович-Данченко и Вахтангов. Горчаков был рядом со Станиславским до конца дней Константина Сергеевича, «система» создавалась на его глазах, при непосредственном участии. После ухода мастера Николай Михайлович стал одним из тех, кто продолжил дело учителя, в том числе как театральный педагог и автор книг, посвященных методу Станиславского.
Три книги, написанные Горчаковым в разные периоды его жизни, до сих пор чрезвычайно интересны, важны для современного театрального процесса, в коем обнаруживаются вывихи, приведем два самых очевидных: непонимание, а иногда просто нежелание понимать природу чувств автора, произведение которого режиссеру предстоит воплотить на сцене; вторая беда – может быть, серьезнее первой – это неумение режиссера работать с актером, непонимание природы актерского искусства. Без этого даже самое внимательное прочтение пьесы и самое бережное отношение к автору выльется в отсутствие подлинной атмосферы на сцене, постановка не будет обладать тем, что А. Д. Попов называл «художественной целостностью спектакля».
Книги Горчакова представляют собой непреходящую ценность – это «Беседы о режиссуре» (М., 1941), один из первых, вслед за книгой В. Г. Сахновского, учебников режиссерского мастерства, «Режиссерские уроки Вахтангова» (М., 1957) и «Режиссерские уроки Станиславского», которую читатель держит в руках. Горчаков систематизировал и сохранил для нас творческие искания, режиссерские и педагогические уроки Станиславского, ему удалось передать в своей книге атмосферу, в которой создавалась «система». Книга охватывает период формирования взглядов Станиславского на природу актерского и режиссерского творчества. Погрузиться в эту атмосферу – задача нелегкая, но исключительно важная и полезная, особенно для будущих мастеров сцены. В этой книге режиссеры и педагоги найдут прочное методологическое основание для собственных умозаключений. Вслед за этим и великолепное здание отечественного театра обретет поддержку. Нужно только научиться мечтать.
А. А. Бармак
Первые встречи
Знакомство с «системой»
Впервые я увидел К. С. Станиславского – увидел в жизни, а не на сцене – на генеральной репетиции «Каина» в Художественном театре в 1920 году.
Зал был предоставлен молодежи московских театров и студий, пришедшей после революции учиться театральному искусству и впервые в тот день приглашенной в Художественный театр на просмотр новой работы театра.
О постановке «Каина» говорили в театральных кругах очень много, рассказывали про смелые замыслы Станиславского, про его неистощимую фантазию на репетициях.
И вот сегодня нас пригласили присутствовать на последнем этапе работы над спектаклем в МХТ. Мы понимали все значение этой генеральной репетиции и волновались, вероятно, не меньше ее участников. Это чувствовалось по настроению зрительного зала.
Вдруг весь зал затих. В темной части его, в дверях, находившихся под бельэтажем, появился К. С. Станиславский, направлявшийся к своему режиссерскому столику.
Видно было, что Константин Сергеевич тоже волновался. Он смотрел очень внимательно на улыбающиеся лица, на обращенные к нему восторженные глаза и как будто вбирал в себя искреннее, теплое чувство зрителей.
Он остановился у столика, еще раз окинул взором весь зал, вглядываясь в самые дальние его края, и каждому из нас казалось, что он видит в эту секунду именно тебя. Затем, соединив свои необычайно выразительные руки в дружеском пожатии, высоко поднял их и сделал широкий, плавный приветственный жест ко всему залу.
Зал горячими аплодисментами отвечал на приветствие Станиславского.
Станиславский, раскланиваясь в разные стороны, благодарил жестами за овацию и просил всех сесть.
Когда наступила тишина, он сказал несколько слов о том, что это его первая встреча как режиссера со зрителем после революции, что спектакль еще не готов, что у ангела нет еще даже костюма: «…он, кажется, выйдет просто в какой‐то простыне…», но что он считает необходимым проверить спектакль на публике.
Затем он секунду помолчал и опустился в свое кресло. Лицо его мгновенно стало необычайно серьезно, даже напряженно.
С моего места мне было удобно следить и за Станиславским, и за сценой. На сцене проходили картины из трагедии Байрона, а на лице Станиславского отражалось каждое слово, каждое движение актера. Я никогда не видел более подвижного, выразительного, впечатляющего лица. Какой детской радостью дышало оно, когда артисты на сцене удачно исполняли свои задачи! Каким строгим, нахмуренным становилось оно, когда на сцене что‐либо не ладилось! Сверкали глаза из‐под сдвинувшихся густых бровей, рука быстро писала на лежавшем перед ним листе бумаги, нетерпеливо что‐то шептали губы.
Смена выражений происходила мгновенно; ни на одну секунду его чудесное лицо не переставало жить, волноваться, радоваться, переживать вместе с исполнителями их чувства. Весь целиком он был с актерами на сцене, по ту сторону рампы.
Он не следил за реакцией зрительного зала, не замечал того, как с ходом спектакля ослабевали интерес и внимание зрителей к тому, что происходило на сцене. Спектакль был встречен сдержанно, с некоторым недоумением. Тема богоборчества не прозвучала революционно, бунт Каина не получился, спектакль не поднялся до высот «трагедии человеческого духа».
* * *Через некоторое время Е. Б. Вахтангов вызвал меня к себе и рассказал, что он просил К. С. Станиславского включить группу молодых студийцев-вахтанговцев в число слушателей лекций о «системе». Эти лекции предназначались для учеников различных студий. Вахтангов назначил меня старостой нашей группы студийцев и сказал, что Константин Сергеевич просил прислать к нему «старосту», чтобы составить себе впечатление о той молодежи, с которой ему предстояло встретиться.
– Вот вы и познакомитесь с Константином Сергеевичем, – сказал мне Евгений Богратионович. – Я знаю, вам давно хочется посмотреть на него вблизи. Впечатление у вас будет, конечно, большое, но не теряйтесь перед ним, не заискивайте, не думайте сразу завоевать его расположение. Обаяние его огромно, но он совсем не так доверчив, как кажется. Ох, и трудно же бывает с ним иногда…
С этим напутствием я и отправился в Леонтьевский переулок. Трусил и волновался я изрядно. Константин Сергеевич принял меня очень просто, сдержанно, я бы сказал, деловито. Он пристально в меня всматривался, как бы стараясь за моими ответами узнать еще что‐то для него важное и нужное. Вопросы его были очень ясны, и цель их мне была понятна. Сколько будет учеников Вахтангова? Когда они приняты в студию? Какой был экзамен, когда их принимали? Какой их возраст и был ли кто‐либо из них знаком раньше с театром? Кто занимался раньше с ними «системой»? Знаю ли я что‐нибудь о других студийцах, которые вместе с нами будут слушать его лекции? Чего мы ждем от этих лекций? Ясно ли нам, что если даже он нам будет целый год читать лекции, актеров они из нас не сделают? «Система» – это лишь путь к самовоспитанию актера, это тропинка, по которой надо идти всю жизнь к поставленной перед собой цели. Никаких рецептов, как сыграть ту или иную роль, он не имеет и не собирается нам сообщать. «Система» – это лишь ряд упражнений, которые нужно делать каждый день, чтобы верно играть все роли. Он очень хотел бы, чтобы все, кто будет его слушать, знали бы об этом заранее; чтобы не ждали от него необычайных открытий и не разочаровывались от тех простых упражнений, которые он предложит. Не могу ли я собрать старост остальных трех групп, рассказать им о нашем разговоре, а затем каждый староста соберет свою группу и сообщит студийцам о характере предполагаемых занятий. Может быть, кто‐нибудь не захочет присутствовать на его занятиях, узнав, что это будет не «открытие истин», а простые упражнения. Он хотел бы иметь подготовленную, организованную аудиторию. Вступительная беседа будет очень короткая, он начнет с первой же лекции упражнения. «Система» – это практические занятия, а не теоретические размышления. Если дело пойдет на лад, он очень скоро возьмет пьесу и на ней будет проходить элементы «системы». Не повторю ли я ему все его замечания, чтобы он убедился, хорошо ли я его понял?
Я постарался как можно точнее повторить все слышанное, тем более что я записывал все перечисленные вопросы.
Я старался не прибавлять от себя никаких толкований его мыслей, и мне показалось, что это удовлетворило Константина Сергеевича.
Затем мы расстались. Свидание было очень коротким: двадцать – двадцать пять минут, хотя мне показалось, что я провел у Константина Сергеевича часа три. Это ощущение у меня родилось, вероятно, от того большого внимания, с которым я слушал Станиславского. В этот же вечер я обо всех своих впечатлениях рассказал Евгению Богратионовичу.
– Ну, и какой же он, по‐вашему? – спросил меня в заключение Вахтангов.
– Строгий и очень деловой, – отвечал я подумав.
– Это оттого, что он вас боялся, – последовал совершенно неожиданный ответ Евгения Богратионовича. – При полной уверенности в правильности своих взглядов на искусство у Константина Сергеевича потрясающая скромность. Встреча с любым новым человеком, какого бы возраста он ни был и какое бы положение в театре ни занимал, – для него всегда проверка своих мыслей об искусстве и своей «системы» на этом человеке. Причем он не столько ждет возражений от собеседника, сколько проверяет, какое впечатление производят его слова и утверждения на последнего. И боится, или, вернее, внутренне беспокоится в это время, что его слова не произведут того впечатления, которое ему необходимо произвести на нового преемника его «системы». Ведь вы для него были представителем той новой молодежи, которой он еще совсем не знает, и поэтому он очень волнуется за свою встречу с нею.
– Не беспокойтесь, вы произвели на него вполне благоприятное впечатление, – прибавил опять‐таки совершенно неожиданно для меня Евгений Богратионович. – Сейчас же после вашего ухода он позвонил мне в Первую студию и сообщил свое мнение о вас. Вот вам на всю жизнь пример внимания замечательного художника театра к молодежи. Чувство ответственности за свое дело у Константина Сергеевича равно его скромности, но зато он требователен к другим так же, как и к себе. Запомните это тоже очень крепко, когда вам от него за что‐нибудь попадет. А что попадет – в этом я уверен!.. – весело закончил Вахтангов свое наставление.
Занятия с объединенной группой студийцев Константин Сергеевич построил точно по плану, о котором он мне сообщил в первую встречу.
Он сделал небольшое вступление об искусстве представления и искусстве переживания, а затем на первом же занятии начал упражнения на свободу мышц, внимание и прочие элементы «системы».
Моей обязанностью было приезжать за Константином Сергеевичем на извозчике и отвозить его домой после окончания занятий.
Однажды (это было в 1920 году) он захотел вернуться с урока пешком. В этот день мы занимались на Кисловке, и до Леонтьевского переулка надо было идти всего 10–12 минут.
На углу улицы Герцена тогда стояла высокая круглая тумба, заклеенная театральными афишами. К. С. остановился и стал внимательно просматривать их. Среди прочих была наклеена и афиша Художественного театра.
– Когда я смотрю на нашу афишу – афишу Художественного театра, – сказал Константин Сергеевич, – я завидую Большому театру. У него в опере все так просто и понятно каждому: «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Князь Игорь»… Великие и прекрасные произведения! Они никогда не умрут, не потеряют своего национального значения… Поют прекрасные певцы: Савранский, Держинская, Богданович.
А в драматическом театре? Вот у нас рядом с «На дне» и «Смертью Пазухина» – «Сверчок на печи», который выветрился и устарел. Это естественно, он и всегда‐то был не в меру сентиментален. А в наши дни…
Правда, это спектакль Первой студии, но широкий зритель в этом не разбирается: марка наша – Художественного театра.
И это еще лучшее, что дается в наших драматических театрах…
Константин Сергеевич недоумевал, почему Таирову разрешают ставить какую‐то религиозно-эстетическую мистику: «Благовещение», «Саломею»? Он не видел этих спектаклей, но сказал, что на днях нарочно прочитал эти пьесы.
– Что в них от революции?
И К. С. довольно раздраженно ткнул тростью в афишу Камерного театра.
– От нас, от академических театров, – продолжал К. С., – требуют революционной насыщенности. Это верное требование, но я считаю, что наш спектакль «Смерть Пазухина» революционней всех этих «Покрывал Пьеретты»! Мы готовим, репетируем «Ревизора», «Маленькие трагедии» Пушкина, возобновляем сатиру Достоевского «Село Степанчиково» – неужели это меньше весит, чем всякие футуристические спектакли или «На всякого мудреца довольно простоты», поставленного, как мне говорили, в приемах цирка.
Впрочем, может быть, я отстал и чего‐то не понимаю в новом искусстве. Старики ведь всегда брюзжат. Но вам, молодежи, следует серьезно думать о будущем, не поддаваться моде. Надо сберечь традиции русского реалистического театра для будущих поколений!..

