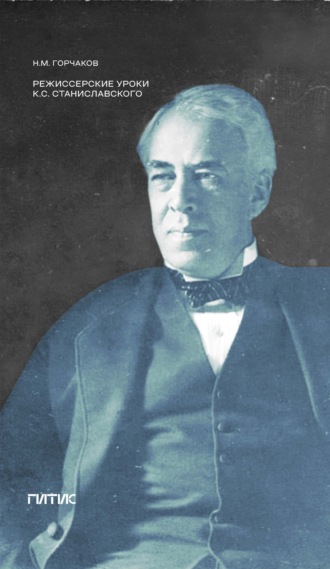
Полная версия
Режиссерские уроки К. С. Станиславского
Через два часа мы вернулись к даче Василия Васильевича и, к нашему изумлению, застали его за накрытым на три прибора столом. Очевидно, мы не убедили его в том, что у нас достаточно денег на завтрак, и добрейший Василий Васильевич приготовил нам «вспомоществование», как он выразился, усаживая нас за стол.
– Вам понадобится много сил, чтобы выслушать все, что приготовился вам высказать К. С., – необходимо подкрепиться, – шутил он.
И, уже не шутя, рассказал, что денег нам дадут, но условия таковы: ни о каком дальнейшем продолжении гастролей наших в Праге и Бухаресте не может быть и речи; мы должны выехать немедленно в Москву в сопровождении представителя дирекции МХАТ. В течение года мы обязуемся вернуть МХАТ деньги из расчета перевода курса доллара на червонец.
Рассказал нам и о том, что ругали нас очень много, но то, что мы обратились за помощью прежде всего во МХАТ, членов дирекции тронуло – значит, есть какая‐то внутренняя связь между театром и нами.
А затем К. С. Станиславский велел нам перед отъездом из Варена в 5 часов явиться к нему лично. И просил заранее предупредить нас, что ни о каких благодарностях он слушать не станет, а хочет сказать нам лишь несколько слов.
Мы благодарили Василия Васильевича за помощь нашему театру и за заботу о нас лично: завтрак оказался настоящим обедом.
– А теперь пойдемте, я вас отведу к «самому», – сказал Василий Васильевич.
Ровно в 5 часов мы были у К. С. Станиславского. Он занимал две комнаты на втором этаже небольшой дачи. Внизу жил Н. А. Подгорный.
Сурово встретил нас Константин Сергеевич. Долго молчал перед тем, как начать говорить. Видно, что сам волновался и тщательно обдумывал свои слова.
– Передайте своим товарищам по театру то, что найдете нужным, вам же я выскажу все, что думаю, – так начал Константин Сергеевич. Голос его прервался…
– Только не волнуйтесь, Константин Сергеевич, дело прошлое… Все обошлось, – мягко заметил В. В. Лужский.
– Я не могу не волноваться, – отвечал ему Станиславский, – они, вероятно, думают, что это их личное дело – удачно или неудачно прошла их поездка. Они забывают, что на них не только марка МХАТ, но, что еще важнее, – они являются представителями молодого советского искусства. Они не думают, как бережно нужно охранять эти молодые побеги от всего, что может помешать их росту. Берлин полон белогвардейцами, которые только и ждут, чтобы с нами, советскими артистами, что‐нибудь случилось. Они ловят каждый слух, каждую сплетню о нас. А тут лучший московский молодой театр, носящий марку МХАТ, сел по собственной глупости в финансовую лужу. Хорошо, что они еще сообразили обратиться к нам и мы за счет своих сбережений можем их отправить домой, как провинившихся школьников. А если бы нас не было? Если бы кто‐нибудь узнал, как глупо они вели свое хозяйство… Театр – это не только две – три хорошие постановки на сцене. Это не только талантливая труппа. Это безупречно, артистически работающий организм во всех своих частях, в том числе и финансовой.
Спектакли у вас, я верю, остались такими же хорошими, какими я их видел при жизни Евгения Богратионовича, и актеры, наверно, выросли, сформировались, талантов у вас много. Я всех отлично помню: и Щукина, и Басова, и Орочко. А дирекция у вас, значит, никуда не годится, раз не сумела обеспечить вам пусть скромный, но твердый материальный успех.
Вы не научились еще организации театра, а отправились в такое рискованное путешествие. Это легкомыслие и безответственность перед государством. Что я буду отвечать Луначарскому, если он меня спросит, как все это случилось?
Отправляясь в поездку, вы мне не написали ни одного письма, не спросили моего мнения и согласия на гастроли. А теперь просите помочь вам, как напроказившие дети…
– У кого их нет, Константин Сергеевич… – вступился за «детей» Василий Васильевич, воспользовавшись паузой.
– Совершенно верно, – продолжал Константин Сергеевич, – у всех нас дети, свои собственные дети. У вас два сына, Василий Васильевич, у меня Игорь и Кира… И вот они (он сурово взглянул на нас, но взгляд его вдруг смягчился – уж очень, вероятно, понурый вид был у нас)… и они тоже дети Художественного театра. Вы все записываете, что я говорю, – обратился он ко мне, – это хорошо, я ничего не имею против, только повторяю: своим товарищам передайте, что найдете нужным, а запись, когда перепишете, пришлите мне. Я сейчас взволнован и могу наговорить много лишнего, но это оттого, что я люблю театр и очень беспокоюсь за судьбу нашего нового искусства. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли: театр – это не только режиссер, труппа, хорошо поставленная и разыгранная пьеса, – это весь ансамбль театра: директор, администратор и гардеробщики. Только так может развиваться новый театр и нести свою культуру зрителю. Кто нарушает это правило, жестоко расплачивается. Театр – это не игра в бирюльки! Это серьезное занятие, а сейчас и дело народное, государственное… Приедете в Москву – напишите о своих планах… о новых работах. Все подробности о наших взаимоотношениях вам, наверное, Василий Васильевич сообщил. Благодарите его – некоторые члены дирекции считали, что вас надо лишить марки МХАТ… но другие вас отстояли… на год, до нашего возвращения в Москву. Приедем – поговорим обо всем.
Мы встали и простились с Константином Сергеевичем. А у выхода в сад встретили Н. А. Подгорного и Вл. И. Немировича-Данченко.
– Ну что, здорово попало? – встретил нас вопросом Владимир Иванович. – Не послушались моего совета[4] – и попали в неприятную историю. Ездить по заграницам не так просто, как кажется. Ну, ничего, все обойдется. Возвращайтесь в Москву, приходите осенью ко мне – обо всем договоримся. – И он крепко пожал нам руки.
Что такое режиссер?
Весной 1922 года, когда еще был жив Е. Б. Вахтангов, уже несколько месяцев не покидавший постели, в одно из воскресений на утренний спектакль (шли чеховские одноактные пьесы) к нам в студию неожиданно пришел Константин Сергеевич. Не помню точно повода, по которому он пришел: быть может, у него было ощущение, что мы, ученики Евгения Богратионовича, тяжело переживая болезнь своего учителя, чувствуем себя одинокими; быть может, хотел посмотреть рядовой спектакль, так как наш театр носил наименование Третьей студии Художественного театра и Художественный театр отвечал за нас.
Он посмотрел спектакль, остался доволен, поговорил со всеми нами и собрался идти домой. Я попросил разрешения проводить его. В тот год я только что окончил школу при театре и должен был начать свою первую режиссерскую работу (по совету Евгения Богратионовича, работу над инсценировкой повести Диккенса «Битва жизни»). Естественно, что возможность провести с Константином Сергеевичем лишние полчаса была для меня чрезвычайно привлекательна. Константин Сергеевич сказал:
– Мне необходимо пойти попрощаться с Айседорой Дункан. Она уезжает во Францию. Проводите меня к ней.
Мы прошли к Айседоре Дункан на улицу Кропоткина, в особняк, где она жила и где помещалась школа ее имени. Я присутствовал при этом свидании и в течение пятнадцати минут наблюдал за разговором К. С. Станиславского и А. Дункан. Говорили они по‐французски. Долго, очень по‐дружески прощались в передней…
Потом мы пошли по Гоголевскому бульвару. К. С. расспрашивал о наших делах в театре, как мы собираемся дальше работать и жить. На бульваре он захотел посидеть. Был хороший весенний вечер. Станиславский спросил меня со своей неизменной вежливостью, не тороплюсь ли я. Куда я мог торопиться от него?! Мы сели на скамейку. Я попросил разрешения задать самый острый, волнующий меня вопрос: что такое режиссер?
Константин Сергеевич ответил мне на это тоже вопросом:
– Вы, вероятно, хотите знать, режиссер ли вы? Хотите, чтобы я вам сказал, считаю ли вас за режиссера. Давайте я вас проэкзаменую.
Это было не совсем то, на что я рассчитывал, но отступать было поздно.
– Вот мы сидим с вами на скамейке, на бульваре, – сказал Станиславский, – мы глядим на жизнь, как из открытого окна. Перед нами проходят люди, перед нами совершаются события – и большие, и малые. Расскажите все, что вы видите.
Я попытался это сделать и рассказал то, что мне казалось важным и интересным и что привлекало мое внимание. Нужно сознаться, что это было не очень много, – то ли мне мешало мое положение экзаменующегося, то ли неожиданность постановки вопроса, но я не был удовлетворен своим рассказом; очевидно, не совсем доволен был и Константин Сергеевич.
– Вы многое пропустили, – и он назвал целый ряд действительно пропущенных мною событий.
Он рассказал, как подъехал извозчик, с которого сошла женщина, очевидно, она привезла больного ребенка в дом.
Он заметил слезы у другой женщины, которая проходила мимо нас и которую я не видел, и еще целый ряд других фактов. Он указал, что я пропустил все звуковые ощущения, которые вокруг нас возникали.
А потом Константин Сергеевич предложил мне:
– Определите, кто идет мимо нас?
Я посмотрел:
– Это, по‐моему, какой‐то бухгалтер. Он такой аккуратный, с карандашом в кармане, портфель чистенький, сам сосредоточенный.
– Это подходит к бухгалтеру, – сказал Константин Сергеевич, – но может определять и целый ряд других профессий.
– А это кто? – и он указал на другую фигуру.
Я посмотрел и сказал, что, по‐моему, это курьер, потому что человек, видно, никуда не торопится, идет какой‐то растрепанной походкой, папка под мышкой; шел, шел, потом решил посидеть, вскочил, пошел быстрее, потом махнул рукой и опять сел на другую скамейку, закурил папиросу. По-моему, это курьер, посланный с очень срочным поручением.
Этот ответ Станиславскому понравился больше. Он сказал, что на этом наблюдении можно построить образ и сценическое действие.
– А о чем говорят те двое на скамейке?
– Влюбленная парочка, по‐моему.
– Почему?
– Потому что они больше говорят глазами, чем движением губ, необычайно заботливы друг к другу, даже в мелочах. Кроме того, отрывочность жестов, взглядов…
К. С. согласился, что, пожалуй, это действительно влюбленные, и задал следующий вопрос:
– А что вы знаете о том месте, на котором мы находимся?
Что я знал о Гоголевском бульваре? Конечно, мало.
– А что вы знаете о сегодняшнем дне, каков он в Москве и даже во всем мире?
Тут на мой грех оказалось, что я даже газеты сегодня не читал, а Константин Сергеевич ее читал и очень внимательно.
– А что вы заметили, когда мы были у Дункан?
– Я был так взволнован, – ответил я, смущенный предыдущими неудачными ответами, – видя вас обоих, наблюдая ваше прощание… Я видел перед собой двух знаменитых людей, и… больше ничего не могу сказать.
– Вы заметили самое существенное: мы действительно играли в двух мировых знаменитостей. Вы только не заметили, для кого мы играли. Вы не заметили господинчика, который сидел в углу? Это специальный секретарь Дункан, он все записывает и будет писать книгу о ней и ее жизни. Когда он сидел в углу, она играла и я играл. Вы заметили, как мы говорили по‐французски? Как, по‐вашему, хорошо мы говорили?
– Мне казалось, что вы говорили хорошо.
– Мы ужасно говорили, но делали вид, что говорим замечательно. А когда мы прощались, вы не заметили – она мне так крепко пожала руку, что даже сейчас больно. Мне кажется, что она хорошо ко мне относится, и я к ней очень хорошо отношусь. Вы могли бы и это заметить, но заметили только результат, во что мы играли, а не заметили причину нашей игры. А что вы знаете о Дункан?
Оказалось, что я о ней ничего не знал и только мог сказать, что она танцует босая.
Следующий вопрос был самый тяжелый.
– А что вы обо мне знаете?
Ничего путного и на этот вопрос ответить не мог.
К. С. сказал:
– Вот мы с вами прошли небольшой курс режиссуры. Режиссер – это не только тот, кто умеет разобраться в пьесе, посоветовать актерам, как ее играть, кто умеет расположить их на сцене в декорациях, которые ему соорудил художник. Режиссер – это тот, кто умеет наблюдать жизнь и обладает максимальным количеством знаний во всех областях, помимо своих профессионально-театральных. Иногда эти знания являются результатом его работы над какой‐нибудь темой, но лучше их накапливать впрок. Наблюдения тоже можно накапливать специально к пьесе, к образу, а можно приучить себя наблюдать жизнь и до поры до времени складывать наблюдения на полочку подсознания. Потом они сослужат режиссеру огромную службу. Вы не первый задаете мне вопрос, что такое режиссер.
Раньше я отвечал, что режиссер – это сват, который сводит автора и театр и при удачном спектакле устраивает обоюдное счастье и тому и другому. Потом я говорил, что режиссер – это повитуха, которая помогает родиться спектаклю, новому произведению искусства. К старости повитуха становится иногда знахаркой, многое знает; кстати, повитухи очень наблюдательны в жизни.
Но теперь я думаю, что роль режиссера становится все сложнее и сложнее. В нашу жизнь вошла неотъемлемой частью политика, а это значит, что вошла мысль о государственном устройстве, о задачах общества в наше время, значит, и нам, режиссерам, теперь надо много думать о своей профессии и развивать в себе особое режиссерское мышление. Режиссер не может быть только посредником между автором и театром, он не может быть только повитухой и помогать родиться спектаклю. Режиссер должен уметь думать сам и должен так строить свою работу, чтобы она возбуждала у зрителя мысли, нужные современности. Я попробовал так работать над «Каином». Я поставил себе целью заставить людей задуматься над теми мыслями, которые заложены в этом произведении.
И со своей обычной самокритичностью К. С. добавил:
– Кажется, мне это не удалось.
Эти качества режиссера, названные мне К. С. Станиславским в весенний вечер 1922 года на скамейке Гоголевского бульвара, – способность наблюдать, уметь думать и строить свою работу так, чтобы она возбуждала у зрителя мысли, нужные современности, – были отличительными чертами самого Станиславского – режиссера и руководителя театра – и, как я понял впоследствии, необычайно точно характеризовали задачи советского режиссера.
В Московском Художественном театре
Зимой 1923 года Вл. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский решили пополнить труппу МХАТ молодежью.
Вл. И. Немирович-Данченко стал вести переговоры с руководителями всех трех студий МХАТ о соединении их в единый театральный организм.
Но Первая студия была убеждена, что, оставаясь самостоятельной, она легче найдет свой путь к большому театру, и отказалась от предложения Вл. И. Немировича-Данченко. Вторая студия МХАТ целиком откликнулась на его призыв и вошла с 1924 года в МХАТ как основное ядро молодого пополнения труппы театра. Из Третьей студии в МХАТ перешла группа артистов[5] и часть школы студии. Перешел и я.
Ранней осенью 1924 года Константин Сергеевич собрал всех вновь пришедших и обратился к нам со следующими словами:
– Вы входите в жизнь Художественного театра в трудный момент: мы только что вернулись из Америки, у нас нет нового репертуара, и мы еще не знаем, откуда мы его возьмем. Старый репертуар заигран и вряд ли соответствует задачам нового советского театра. Существует поговорка, что в старые мехи не следует вливать молодое вино. «Мехи» Художественного театра, конечно, довольно старые – им больше четверти века. Но я полагаю, что они еще могут сослужить хорошую службу новому искусству, новому театральному поколению. Они еще достаточно крепкие.
Вы молодое вино. Вы будете бродить, становиться ароматнее, крепче, воспримете от старых «мехов» наших традиций приверженность лучшим идеалам русского театра.
Традиции Художественного театра идут от традиций Щепкина и Гоголя.
Гоголь видел в театре учреждение, способное влиять на духовные запросы зрителя, воспитывать его в принципах высокой морали и этики. Перед театром он ставил задачи общественного характера, задачу воспитания общества посредством слова писателя-драматурга, звучащего со сцены, воплощенного в художественный образ, в сценическое действие.
Художественный театр следует завету Гоголя и отдает себя всецело на служение обществу.
Щепкин требовал, чтобы заветы Гоголя воплощались на сцене в реальные художественные образы. Он был величайший русский художник-реалист. Он не признавал условности, не оправданной жизнью, взятой не из жизни. Он требовал от актера знания жизни, полного художественного отражения ее в его работе на сцене, воплощения жизни в сценические образы.
Художественный театр следует заветам Щепкина и требует от актера показа со сцены живого человека во всей сложности его свойств характера и поведения.
Придя в Художественный театр, вы посвящаете свою жизнь служению этим великим заветам гениальных русских художников.
Осуществлять их каждый день, в каждый час своей работы в театре и вне его, в своей жизни очень трудно.
Я обещаю вам свою помощь, но предупреждаю, что буду очень требователен и придирчив. Театр начинается не в тот момент, когда вы сели гримироваться или ждете своего выхода на сцену. Театр начинается с той минуты, когда, проснувшись утром, вы спросили себя, что вам надо сделать за день, чтобы иметь право с чистой совестью прийти в театр на репетицию, на урок, на спектакль.
Театр и в том, как вы поздоровались с Максимовым[6], проходя мимо него в раздевалку, как вы попросили у Феди[7] контрамарку, как вы поставили свои галоши на вешалку.
Театр и в том, как вы говорите о нем знакомому на улице, продавцу в книжной лавке, приятелю – актеру другого театра, парикмахеру, который стрижет вас.
Театр – это отныне ваша жизнь, целиком посвященная одной цели – созданию прекрасных произведений искусства, облагораживающих, возвышающих душу человека, воспитывающих в нем великие идеалы свободы, справедливости, любви к своему народу, к своей Родине.
Мы начнем сразу много работать. В школе будут каждый день идти занятия и уроки – нам нужно молодое, свежее пополнение труппы. Я хочу особенно обратить внимание на занятия дикцией, голосом, ритмом, движением, пластикой. Говорят, что мы не требуем в Художественном театре от актера этих качеств; это ерунда и досужая сплетня. Наши лучшие актеры – Качалов, Москвин, Леонидов, Лужский, Ольга Леонардовна, Грибунин – всегда обладали всеми перечисленными мною качествами.
Те из вас, кто окончил уже школу, будут заняты в наших старых спектаклях. Мы возобновляем в первую очередь «Смерть Пазухина», «Царя Федора Иоанновича», «Синюю птицу», «Горе от ума», «На дне». Во всех этих пьесах большие массовые сцены. Художественный театр всегда славился исполнением их. Массовая сцена – это лучшая школа для молодого артиста. Все элементы сценического образа и сценического действия заложены в каждом персонаже «народной» сцены. Мы будем очень тщательно репетировать эти сцены, и я надеюсь, что вы убедитесь, как полезно участвовать в них.
Целый ряд эпизодических ролей у нас некому играть. Мы растеряли за эти годы часть труппы. От нас отделилась Первая студия. Мы поручим роли тем из вас, кто покажется нам наиболее подходящим. Это большая честь – в первый же месяц по приходе в Художественный театр играть роль со словами в старом, основном спектакле театра. Не возгордитесь от этого. Вашей заслуги в этом нет. Это жестокая необходимость; давайте сделаем так, чтобы она пошла на пользу и вам, молодым актерам, и театру…
Такова была вступительная речь Константина Сергеевича. Слово у него не расходилось с делом. Через час в том же верхнем фойе он сидел на уроке ритмики, который вел его брат Владимир Сергеевич, и с огромным вниманием смотрел на упражнения старшего, выпускного курса школы МХАТ.
Вполголоса он подробно расспрашивал меня и И. Я. Судакова обо всех юношах и девушках, проходивших перед ним в ритмическом плавном движении. Он сейчас же «нацеливал» их на отдельные роли и эпизоды в различные пьесы, давая многим яркую, точную оценку.
Первую из поставленных перед собой задач – создание единой «новой труппы» МХАТ – К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко с осени 1924 года проводили в жизнь, осуществляли на практике репетиций и в текущей жизни театра необычайно упорно и настойчиво.
Они отлично понимали, что труднее всего создать единство идейных, художественных и этических взглядов на театральное искусство у совсем еще «зеленой» театральной молодежи, и стремились как можно скорее ввести нас в жизнь театра, ближе, органичней познакомить нас с искусством, с традициями МХАТ и замечательными «стариками» – актерами театра, живыми носителями этих традиций.
«Старики» и молодежь
Однажды, той же осенью 1924 года, Вл. И. Немирович-Данченко собрал нас всех на экстренное совещание в фойе театра и сообщил, что завтра рано утром со своей «чеховской» дачи в Гурзуфе приезжает О. Л. Книппер-Чехова и гостивший у нее в это лето В. И. Качалов и что он поручает нам, молодежи МХАТ, разработать весь ритуал встречи этих замечательных актеров. Весь следующий день посвящался этой встрече. Необходимо было так сорганизовать занятия, чтобы в ту минуту, когда Ольга Леонардовна и Василий Иванович захотят прийти в театр, все репетиции остановились и коллектив театра в полном составе приветствовал своих первых актеров.
Мы, молодые актеры, должны были не просто представиться Книппер-Чеховой и Качалову, а прочесть им отрывки или стихотворения.
Разумеется, вся молодежь театра была чрезвычайно взволнована. Нам доверяли, нам поручали «принять» в театре Ольгу Леонардовну и Василия Ивановича после долгого отсутствия их в родном доме. Мгновенно создались отдельные группы: одна – по встрече на вокзале, другая – в театре, третья – по украшению их артистических уборных цветами, зеленью, приветственными надписями и, наконец, последняя группа – по отбору тех, кто для первой встречи, для первого знакомства будет читать Качалову и Книппер-Чеховой прозу и стихи.
Внесли предложение поставить на сцене декорацию из первого действия «Вишневого сада», провести Ольгу Леонардовну и Василия Ивановича через зрительный зал, а затем на сцене сымпровизировать отрывок из первого действия пьесы – возвращение Раневской и Гаева в деревню.
Все это санкционировалось В. В. Лужским, неизменным участником подобных затей.
На следующий день одна группа молодежи встречала Книппер-Чехову и Качалова на вокзале и провожала на квартиры. В определенный час другая группа заехала за ними и сопровождала их в театр. Весь состав театра – труппа, мастерские, бухгалтерия, администрация, билетеры – стоял шпалерами от подъезда бельэтажа до сцены. В большом нижнем фойе Ольгу Леонардовну и Василия Ивановича встречали Москвин, Станиславский, Грибунин, Лужский, Леонидов, Лилина, Вишневский, Бурджалов, Раевская и другие старейшие актеры и сотрудники МХАТ. Затем все направились через зрительный зал к сцене. От среднего прохода широкие ступени поднимались прямо на сцену.
Когда они подошли к ней, белые «чайки», вышитые на занавесе, разлетелись в обе стороны, как бы приветствуя своих знаменитых хозяев. Залитая солнечным светом, лившимся через широко распахнутые окна, стояла на сцене знаменитая комната первого акта «Вишневого сада».
Растроганные, изумленные неожиданностью, Книппер-Чехова и Качалов остановились на середине лестницы, которая вела на сцену, а из окна уже выглядывали с цветами в руках девушки – «Ани» и, протягивая руки к Ольге Леонардовне, говорили: «Мама, милая мама! Ты помнишь эту комнату?»
Из дверей слева появилась группа других девушек – «Вари». Они кутались в легкие шали, как полагалось по пьесе, и тоже обращались со своим текстом к «приехавшим»:
– Ваши комнаты такими же и остались. Без вас в них было очень холодно!
Девушки – «Дуняши» подходили сбоку из зала по проходу первого ряда. «Заждались мы вас», – говорили они Ольге Леонардовне и Василию Ивановичу. А с другой стороны по первому ряду шли молодые актеры в «епиходовских» шляпах с громадными букетами и, подавая их Качалову и Книппер-Чеховой, сопровождали свое подношение словами чеховской пьесы: «Вот садовники прислали…»
Серьезные, глубоко задумавшиеся стояли Ольга Леонардовна и Василий Иванович.
В зале каждое «явление» встречали аплодисментами, а тут еще из левых дверей павильона появился, как было условлено, сам Владимир Иванович. В старинном цилиндре Фирса и опираясь на его палку, он под овации всего зала шел к «господам».
«Ну вот и приехали!» – под гром аплодисментов произнес он «фирсовым» голосом и обнял Ольгу Леонардовну, Василия Ивановича.
Сцена заполнилась участниками этой импровизации и теми, кто встречал Книппер-Чехову и Качалова в фойе и в зале.
Ольгу Леонардовну усадили в «детское» креслице, Станиславский, Леонидов, Лилина, Грибунин, Лужский разместились вокруг. Кто не участвовал в «игре», занял первые ряды кресел партера.
Неожиданно поднял руку В. И. Качалов, прося слова.

