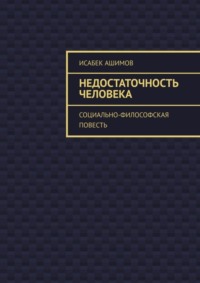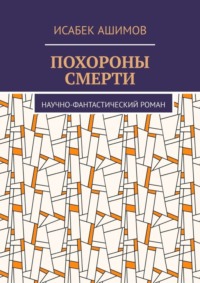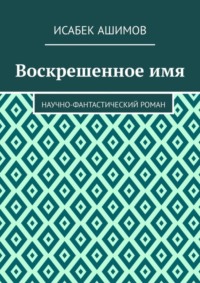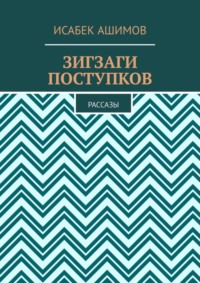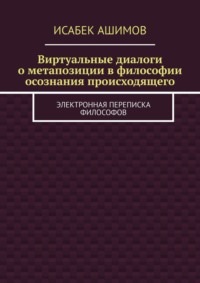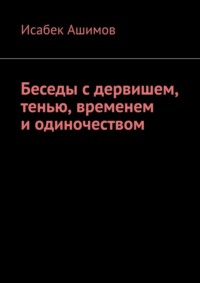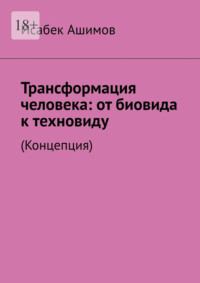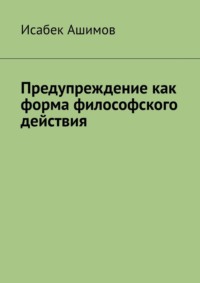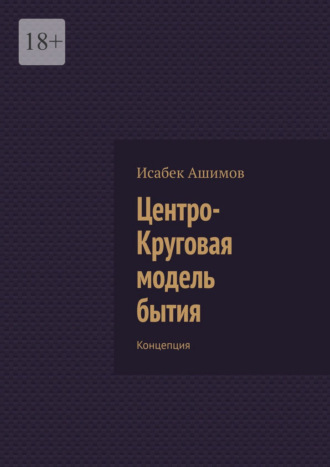
Полная версия
Центро-Круговая модель бытия. Концепция
Основными причинами формирования философии образования как особой исследовательской области философии являются: 1) Обособление образования в автономную сферу жизни общества; 2) Диверсификация институций образования; 3) Разноречье в трактовке целей и идеалов образования, которое фиксируется как многопарадигмальность педагогического знания; 4) Новые требования к системе образования, связанные с переходом от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Основное размежевание внутри философии образования проходит между эмпирико-аналитическими и гуманитарными направлениями и отражает альтернативные подходы к субъекту образования – человеку. Эмпирико-аналитическая традиция в философии образования использовала понятия и методы бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, а также кибернетический подход к психике человека. Собственно аналитическая философия образования возникает в начале 1960-х гг. ХХ в. в США и Англии (И. Шеффлер, Р.С.Питерс, Е. Макмиллан, Д. Солтис и др.). Основная цель философии образования усматривается в логическом анализе языка, употребляемого в практике образования. В кон. 1970-х гг. ХХ в. аналитическая философия образования осуществляет переход от принципов логического позитивизма к принципам философии лингвистического анализа, к аналитике обыденного языка, прежде всего к философии позднего Л. Витгенштейна (1889—1951), подчеркивая роль «языковых игр» и семантики в образовании. В конце 1960-х гг. ХХ в. в философии образования формируется новое направление – критико-рационалистическое (К. Поппер, В. Брецинка, Г. Здарзил, Ф. Кубэ, Р. Лохнер и др.), для которой характерны: 1) Трактовка педагогики как прикладной социологии и поворот к социальной педагогике; 2) Противопоставление социальной инженерии холизму и в связи с этим критика долгосрочного планирования и проектирования в педагогической практике; 3) Критика тоталитарного подхода в образовании и педагогическом мышлении и отстаивание принципов «открытого общества» и демократических институций в управлении системой образования; 4) Ориентация педагогической теории и практики на воспитание и образование критически-проверяющего разума, на формирование критических способностей человека.
Истоками гуманитарных направлений в философии образования являются системы немецкого идеализма начало XIX в. (Ф. Шлейермахер, Гегель), философия жизни (В. Дильтей, Г. Зиммель), экзистенциализм и различные варианты философской антропологии. Для гуманитарных направлений в философии образования характерны: 1) Подчеркивание специфичности методов педагогики как науки о духе, ее гуманитарная направленность; 2) Трактовка образования как системы осмысленных действий и взаимодействий участников педагогического отношения; 3) Выдвижение на первый план метода понимания, интерпретации смысла действий участников образовательного процесса. Внутри гуманитарной философии образования можно выделить несколько направлений: 1) Герменевтический историзм, в центре которого понятия «повседневность», «жизненный мир» человека; это направление отстаивает мысль о том, что в любом жизненном акте существует образовательный момент, а задача философии образования трактуется как осмысление всех духовных объективаций человека, образующих некую целостность, ответственность; 2) Структурная герменевтика, которые, исходя из автономии образования в современном обществе, рассматривают педагогику и философию образования как критическую интерпретацию педагогических действий, подчеркивают значение герменевтики в педагогической теории и практике; 3) Педагогическая антропология, представленная в различных вариантах – от натуралистически ориентированных (Г. Рот, Г. Здарзил, М. Лидтке) до феноменологических (О. Больнов, И. Дерболав, К. Данелт, М.Я.Лангевелд); 4) Экзистенциально-диалогическая философия образования (М. Бубер, А. Петцелт, К. Шаллер, К. Мелленхауэр и др.), усматривавшее смысл и основания педагогического отношения в межличностных связях, во взаимосвязи «Я» и «Ты».
В 1970—80-е гг. ХХ в. становится популярным критико-эмансипаторское направление в философии образования. С этим направлением во многом смыкается постмодернистская философия образования, которая выступает против «диктата» теорий, за плюрализм педагогических практик, проповедует культ самовыражения личности в малых группах (Д. Ленцен, В. Фишер, К. Вюнше, Г. Гизеке, С. Ароновитц, У. Долл и др.). В советский период различные направления в философии образования получили в трудах П.П.Блонской, Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, Г.Л.Щедровицкого, Э.В.Ильенкова и др. Общими тенденциями философии образования накануне XXI в. являются: 1) Осознание кризиса системы образования и педагогического мышления как выражение кризисной духовной ситуации нашего времени; 2) Трудности в определении идеалов и целей образования, соответствующего новым требованиям научно-технической цивилизации и формирующегося информационного общества; 3) Конвергенция между различными направлениями в философии образования; 4) Поиски новых философских концепций, способных служить обоснованием системы образования и педагогической теории и практики (выдвижение на первый план феноменологии, поворот к дискурсному анализу (М. Фуко и др).
С философией образования наиболее тесно связана мировоззренченская культура, которая представляет собой совокупность источников и способов познания человеком мироздания, сущности самого человека и его отношения с Миром, а также тех учений, теорий, идей, которых он стал придерживаться в результате познания. Мировоззренческая культура включает в себя религию, нравственность, философские взгляды, духовные потребности. Уровень развития мировоззренческой культуры есть показатель духовности человека и общества. Мировоззрение есть плод глубокой мыслительной деятельности самой личности, перед которым стоит духовная задача – осмыслить собственный жизненный путь: во имя чего жить, во что верить, чем заниматься. Мировоззренческая культура личности проявляется в широком кругозоре, в способности выработать свой собственный взгляд на мир и происходящие в нем процессы, в умении обосновать свою позицию. Верить или не верить – личное дело каждого, но хорошо, когда в основе выбора лежит личное убеждение, а не чья-то добрая или злая воля. На наш взгляд, в стандарт образования обязательно должна быть заложена идея атеизма. Эти мысли нами изложены в книгах «Религия / АнтиРелигия» (2022), «Поиск истины» (2023). После распада СССР возник духовный вакуум, в который устремилась самая разноликая псевдо духовность, религиозность, не подкрепленная верой. Человек, ориентированный на личностное развитие, не принимает слепо мировоззренческую идею, а вырабатывает свою позицию, анализируя разные взгляды, знакомясь с новейшими открытиями в науке, исследуя свой внутренний духовный мир. Духовно развитый человек не отвергает, не разобравшись, другое мнение, проявляет терпимость к иному миропониманию.
Наш культуросозидающий пафос на основе необходимости новой научно-мировоззренческой культуры, как нами подчеркивалось выше, вливается в идею о создании особого учения – итератизма. Вечное возвращение – это концепция, которая была сформулирована Ф. Ницше (1844—1900) в его работе «Так говорил Заратустра». Согласно этой концепции, все явления и события в мире повторяются бесконечно, как будто они возвращаются к своему началу. Он утверждал, что все, что происходит в мире, имеет свою причину и следствие, и что эти причины и следствия снова и снова повторяются в бесконечном цикле. Он считал, что этот цикл вечного возвращения является основной характеристикой жизни и природы. Концепция вечного возвращения имеет свои корни в философии Платона (428—348 до н. э.) и Аристотеля (384—322 годы до н.э.), которые также считали, что мир состоит из повторяющихся циклов. Однако Ф. Ницше (1844—1900) пошел дальше и утверждал, что эти циклы не только повторяются, но и что они постоянно меняются и развиваются. Для него концепция вечного возвращения была способом понять, как мир функционирует и как мы можем жить в нем. В целом, концепция вечного возвращения представляет собой философскую идею, которая подчеркивает, что все в мире меняется и развивается, но также возвращается к своим истокам, но на более высоком уровне (в нашем понимании).
Как известно, В.Н.Сагатовский выделяет: 1) Онтолого-мировоззренческий круг – это наличие взаимной обусловленности мировоззрения и онтологии. Определенные положения онтологии обосновывают определенные мировоззренческие установки и наоборот – под предпочитаемые установки подыскивается соответствующая онтология (чаще всего подсознательно); 2) Мировоззренческо-онтологический круг – это взаимная обусловленность определенного мировоззрения, как совокупности ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно места человека в мире и смысла человеческой жизни, и определенной онтологии как философского учения о мире. Онтология обосновывает мировоззрение, но мировоззренческие установки определяют предпочтение той или иной онтологии. По автору, мировоззрением – это совокупность ценностей, идеалов и разъясняющих их знаний относительно мира, человека и его отношений. Системообразующим началом мировоззрения является основной вопрос мировоззрения – о месте человека в мире и смысле человеческой жизни. Онтология – это философское учение о мире, т.е. о всеобщей структуре мира-универсума и любого сущего. Онтология как наука выстраивает категориальную структуру, онтология как вид литературы осмысляет уровень всеобщего посредством переживаний и воплощения их в символах (метафорах, концептах). Определенная онтология обосновывает определенное мировоззрение, но в то же время определенное мировоззрение выбирает под себя (чаще всего, разумеется, подсознательно, если речь не идет о конструировании идеологического мифа) определенную онтологию. Таким образом создается своеобразный круг.
В чем заключается идея и пафос предлагаемого сочинения? Кому оно адресовано? Что хочет сказать или доказать автор? Что он пытается до нас донести? С какими идеями полемизирует автор и какие собственные доводы он приводит в ответ? Прав ли автор в интонациях и акцентах? С подобных вопросов, как правило, читатель начинает обсуждать произведение. Постепенно, в процессе чтения указанные вопросы в той или иной мере снимаются и лишь в конце прочтения читателю, возможно, в той или иной степени удастся сформулировать то, что можно назвать точным обобщением основной идеи автора. На сегодня сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и литературных философов. Вначале о рациональной философии: 1) В текстах всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее читатель, когда каждое предложение автора осмысленно, а текст выражает последовательность взаимосвязанных мыслей; 2) Аргументация мыслей идет от логики и данных наук, опираясь на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы; 3) Голословно не внушаются авторские идеи читателю, а аргументация убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности и пр. Между тем, стиль художественно-философского сочинения как смесь литературной и рациональной философии имеет ряд преимущества в аспекте полноты изложения материалов.
Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим критериям: 1) Если для рационального философа главное – это мысль, последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то второстепенным, порой даже несущественным; 2) Если рациональный философ сначала формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль; 3) В текстах литературной философии вместо рациональной аргументации используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно этим объясняется широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и прочих литературно-художественных приемов; 4) Невозможность построить критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо то, что формируется «мозаичный» текст, некая бессвязность, расплывчатость, умозрительность; 5) Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, пришлось труд разделить на две части по степени доминирования того или иного стиля.
Как известно, осмысление реальности – традиционная тема философии. Человек ощущает реальность изнутри, внутри себя и извне, выступая в роли наблюдателя, созерцателя, постороннего. Сторонники естественных наук часто бывают склонны к преувеличениям. Некоторые из них полагают, что наукой имеет право именоваться только наука естественная, констатирующая объективные факты, исследующая реальность при помощи измерительных приборов и обнаруживающая каузальные взаимосвязи. По этим же критериям они оценивают психологию. Психология и гуманитарные науки начинаются лишь тогда, когда наблюдения, статистические данные, так называемые объективные факты и пр. подвергаются интерпретации, когда исследователь задается вопросом о мотивах, стоящих за поведением и чувствами индивида, группы и общества. Однако именно на этом этапе возникает мифология, поскольку зафиксировать психологический феномен можно только с помощью метафор, образов и пр. Что же такое философское иносказание? Это художественно-философский прием отображение одного феномена через другого путем создания метафоры. Метафора рассчитана на небуквальное восприятие и требует от читателя умения понять и почувствовать создаваемый ею образно-эмоциональный эффект. В нашей книге, по сути, речь идет о способе образования новых философских категорий.
Теперь, что касается знака или символа Круга. В нашем случае, круг – это содержательная единица сознания, мысль, связанная с явлением нескончаемости Зла. Разумеется, круг содержит в себе самые общие сведения о предмете без намёка на какое-нибудь специальное предназначение, направленность. А если рассматривать круг, как единицу в качестве связки подсказывающую возможную этимологию термина «смысл»? Как известно, у смысла есть функция – достичь определённого результата или эффекта. Он оказывается наделённым определённой значимостью, ценностью для взаимодействующих в процессе коммуникации людей, являясь аксиологическим, социокультурным и ментальным феноменом. Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума читателя научные знания? Автор считает такое возможным, если использовать триадный принцип познания: популяризация →, концептуализация → философизация. Как ученый-философ, как писатель-фантаст из романа в роман («Пересотворить человека», «Грани отчаяния», «Тегерек», «Биовзом», «Развенчание мифов», «Фиаско», «Клон дервиша», «Биокомпьютер») создал целую галерею персонажей, представляющих научный мир, которым подвластны смелые научные эксперименты. Разумеется, были у них завистники и оппоненты, которые считали, что авторские идеи слишком абстрактные, отражают абстрактность и сложность научного подхода к излагаемым проблемам. Но интересен не столько анализ художественного уровня научно-фантастических романов автора, сколько анализ культурной мифологии медиатекста, то есть выявление и анализ сконструированных автором мифов и легенд. Разумеется, надеюсь на понимание моих опытов конструирования и философского анализа мифов, тесно связанных с сверхактуальными проблемами современности – Абсолютное зло, эвтаназия, роботохирургия, пересадка головы, клонирование человека и пр. Между тем, взаимосвязь необыкновенных, но «подлинных» событий – один из основополагающих архетипов имеет очень большое значение, прежде всего, для популяризации науки и новых технологий, для актуализации идейных горизонтов мифов и неомифов.
Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или отрицание. Дело в том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить в очень и очень узком кругу учений. Куда больше религий признают существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. И всё же хотелось бы сказать: попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть может, автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинное» значение? А если взять за основу несколько вариантов: 1) Антропоморфный Дьявол – некий зловещий тип, который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; 2) Дьявол-отступник – это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого воображения; 3) Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор». В качестве мифологического нарратива или «бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема «нарратив – метафизика – философская импликация» важна для эффективной популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: 1) От простого к сложному; 2) От единичного к общему, через особенное.
Изображённые события и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации текстовых стратегий всех частей книги. В чем заключается необычность сочинений? Прежде всего, нарративы представляют собой новый синтетический жанр научно-философского толка, тексты которых порождены авторским мифосознанием и представляют собой не что иное, как индивидуально-авторское смысловое и структурное единство, адресованное читателю. То есть они воссозданы через призму индивидуального авторского видения с целью целенаправленного создания, вначале мифа, а затем соответствующего ему неомифа. Для чего это было сделано? Прежде всего, для воздействия на читательское сознание через раскрытие смысла новых вызовов и угроз, связанных с проблемой Зла и борьбы с его проявлениями. Юнгианская тень присутствует всегда, в том числе как проявление зла. Поэтесса А. Ахматова (1889—1966) писала: «Будущее, как известно бросает свою тень задолго до того, как войти». Исламский богослов Ибн Таймия говорил: «Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте». Понятно, что здесь невозможно обойтись без теории, а потому мною выбран стиль целенаправленного научно-художественного дискурса писателя и философа в одной голове. Какова идея и что за пафос произведения? В чем заключается логика сочинения? Вполне допускаю, что моя книга, возможно, смутит и озадачит читателей, ибо, она написана, с одной стороны, в новом, так называемом синтетическом жанре (роман-миф, роман-предостережение), а с другой – представляет собой результат конструирования и комплексной научной верификации мифа и неомифа (деконструкция, символизация, концептуализация, философизация, семантизация, сакрализация). Надеюсь, что любой предвзятый читатель поймет правду того, что, казалось бы, непритязательные художественные сочинения автора, оказывается: 1) Содержат заметный комплекс актуальных философских проблем; 2) Философия оказывается окружает нас всюду и везде, что даже на сельской периферии где-то там Богом забытом краю, мы сталкиваемся с ней каждодневно. Впрочем, автор далек от того, чтобы навязывать свое понимание и свои философские доводы кому бы то ни было. Надеюсь, читатель сам сделает соответствующие выводы, проявив уже некую причастность к философии.
Один из мудрецов сказал: «Мало знать путь, нужно суметь по нему пройти». В свое время Л.Н.Гумилев (1912—1992) писал: «…то, что ценой жизни устанавливается ученым-исследователем, обывателю зачастую непонятно и неинтересно. А то, что выдумано с расчетом на уровень читателя – легко усвояемо». Как сделать так, чтобы интересно и понятно донести до ума читателя научные знания? Считаю такое возможным, если использовать триадный принцип познания. Здесь я сошлюсь на свое научное открытие [«Закономерность формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры («Теория Ашимова»). – Дипл. №67-S. – М., 2018]. Так вот, при помощи непрерывного, последовательного, динамичного и трехфазного познавательного процесса («популяризация», «концептуализация», «философизация») осуществляется перенос моделей знания из менее развитого в более развитое, в конечном итоге, определяющий процесс «приращения» новых знаний в культурную ткань человечества. Именно такой уровень мироощущения и мировоззрения придаст каждому из нас уверенность в том, что наши мысли научились летать и имеют свои горизонты, что мы уже причастны к философии. Что означает причастность к философии? Если мы внимательно всмотримся в лица архаичных кара-кулов из романа «Тегерек», то сможем увидеть самих себя. Логика такова, что «край каньонов и пещер» – сакральная малая родина кара-кулов не имеет отношения к реальной географии, но путь в этот незнаемый, Богом забытый край, ведет в глубины сознания нашего сознания, внутреннего «Я» каждого из нас, независимо кто мы, откуда мы и куда мы направляемся. Вот почему, книга, как мы полагаем, представляет собой лишь возможность «прочесть» утраченные страницы прошлого, вспомнить былой Дух, Сакральность, Нравственность, Мировосприятие, не забывая при этом, что мы уже живем и будем жить в Новом эсхатологическом мире настоящего и будущего.
Понимаю, что мы «замахнулись» на кардинальную и вечную проблему человечества – проблему Зла и борьбы с ним. Разве есть более актуальный эсхатологический феномен современности, чем Зло? Зная и понимая концепт Зла, суть фабрики Зла в контексте, как онтологической недостаточности самого человека, так и АнтиСистемы в целом, нужно искать пути элиминации Зла, борьбы с ним в любом его обличьи. В этом плане, философия – это не знание, а действие. Немецкий поэт И.В.Гёте (1749—1832) писал: «Где ярче свет – там тени гуще». Как это следует понимать? Логика такова, что уже в архаичные времена кара-кулы понимали исключительную сакральность познания мира и самого себя, как способ преодоление Зла во вне и внутри себя, как путь ликвидации Зла, ведущий в глубины сознания каждого из нас. В чем заключается новизна нашего подхода? Наверное в том, что, как правило, философы приступают к осмыслению и обобщению уже имеющегося материала от писателя. Естественно, при этом философы пытаются несколько умозрительно определить содержание поставленных писателем вопросов, когда почти всегда бывает трудно четко сформулировать саму проблему. Другое дело, когда сам философ конструирует художественный нарратив с четкими вопросами для осмысления и обобщения: во-первых, сформулировать какого рода предметы и явления должны существовать ради них самих? Во-вторых, какого рода действий мы должны совершить, чтобы найти решение проблемы? Вот почему одним из главных подходов к проблеме является: «посадить» (гипотетически) философа и писателя в один рабочий кабинет; «совместить» (гипотетически) философию и писательство «в одной голове». Разумеется, реальный эффект будет лишь тогда, когда произойдет «совмещение» философа и писателя в личности одного человека. В ипостаси писателя он создает художественный нарратив, а в ипостаси ученого и философа свообразную технологию, когда несколько операционных смыслов (деконструкция, символизация, концептуализация, философизация, семантизация, сакрализация) интегрируются в новый смысл, который в сознании индивида предстает уже как новое идеальное содержание.
Глава II
Итератизм: теоретические концепты кода-символа «круг»