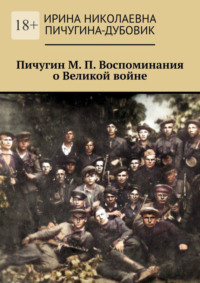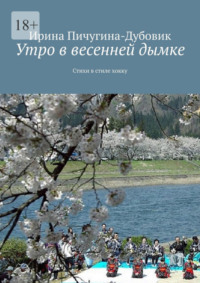Полная версия
Моё разноцветное детство. Для детей и маленьких взрослых
Прибежала бабушка, отругала деда, утёрла мне слёзы и увела спать.
В ту ночь я топтыжку с собой не брала…
Но солнечным утром ужас стёрся, рассеялся по углам и засел там за фикусами. Днём бабушка купила мне большого, белого пластмассового баранчика с длинными ножками на шарнирах. Теперь я спала в обнимку с ним.
Деде стало лучше, он ушёл во двор, поделать чего-то по хозяйству. Мы с баранчиком слонялись по пустому дому и жутко скучали по папе и маме. Ну отчего они за мной не едут? Может быть, они про меня забыли, оставили в Ирбите на всю мою жизнь?
Тут в доме началась кутерьма, разговоры, шаги. Я побежала было к дверям, но навстречу мне уже быстро шла бабушка с какой-то бумагой в руках. Она улыбалась по-доброму, как-то по-новому глядя на меня.
– Бабушка, что? – волнение внезапно охватывает меня. – Что?
– Это принесли нам телеграмму от твоего папы, – говорит она мне, – Ну, пляши, скоро за тобой приедет папа и заберёт в новый дом!
Я пляшу в восторге!
– Когда приедет? Завтра?
– Нет, через десять дней. Вот каждое утро, как глаза откроешь, зажимай один палец, когда все сожмёшь в кулаки, папу и увидишь!
Я смотрю на свои пальчики – десять. Десять дней так долго ждать…
Последующие дни погода стояла весёлая, всё время я была чем-то занята, скучать и нудиться было некогда. Желая дать мне от Ирбита как можно больше впечатлений, бабушка водила меня по городу, заходили мы и по делу к её знакомой. Одно присутственное место (бабушка так и сказала, «присутственное место», чётко проговаривая для меня слова) располагалось в старинном особняке, из тех, что с малахитовой крышей. Мы поднялись по крытому старому и щелястому деревянному крылечку. Сверху над ним был жестяной красивый и кружевной козырёк от дождя. На древней двери красовалась огромная медная ручка, такая гладкая, отполированная столь многими руками, что и мне сразу захотелось потрогать её пальчиками. Ещё на входной двери много выше моего роста было приделано большое потемневшее от времени медное кольцо и медный кружок под ним с таким выступом, чтобы кольцо било по выступу. Но было видно, что кольцом никто уже давно по выступу не стучал, всё заскорузло, спаялось воедино зелёной ярь медянкой.
– Зачем это?
– Раньше при царе так в дверь стучали, и хозяева слышали, что к ним пришли. А теперь видишь, электрозвонок.
Очарованная странностями старого дома, я уже ждала чудес. Мы миновали прихожую и перед нами в обе стороны развернулись анфилады комнат, уводящие вдаль. В каждой комнате бурлила «присутственная жизнь» с бумагами, телефонными звонками и серьёзными тётями. Бабушка нашла свою знакомую, и они решили, что пойдут на приём «к начальнику» вместе. Только куда же деть меня?
Пройдя насквозь всё здание, мы очутились в крайней комнате с огромным окном. Несмотря на него, света не хватало – было сумрачно и прохладно. Вдоль стен стояли массивные почерневшие от времени стулья. Сразу видно, тяжелые, мне и с места их не сдвинуть. Справа спиной вжались в стену два шкафа, приземистые, тёмного дерева, с резными дверцами. Между ними приглашающе растянулся диван, обтянутый чёрной же кожей, продранной и зашитой во многих местах. Даже мне было понятно, что шкафы и диван неподъёмны. И что, как поставили их прежние хозяева особняка, тогда, давным-давно, так они по сю пору и стоят на этих же самых местах. Эта комната производила сильное впечатление. Как будто она жаловалась, что вот раньше была набита мебелью, а теперь – глядите, как она оголилась, остались лишь эти жалкие остатки прежнего убранства. Возле окна стоял высокий старинный столик-подставка для цветочного горшка. В горшке, видно, что тоже старинном, царил огромный вуалевый папоротник. Светлой зелени раскидистые паутинные листья брали своё начало из коричневого и высохшего сетчатого клубка у основания. Казалось, папоротник спрашивал, зачем мы пришли, зачем мешаем ему дремать и вспоминать, что когда-то было, было! И безвозвратно ушло.
Бабушка усадила меня на кожаный диван и наказала ничего не бояться и никуда не бегать.
Она ушла, а я осталась одна в этой сумрачной, но не мрачной, а скорее, печалящейся зале. Комната странным образом была одухотворена, в ней витала своя особая тихая жизнь. Сначала я смирно сидела, впитывая в себя впечатления, пробуя на вкус атмосферу той далёкой от меня жизни, что еле-еле, но ещё теплилась в этих карнизах, очертании окон и низкого широченного подоконника, в старинных стульях и шкафах, цепляясь за их массивную сущность и шепча мне о том, как хорошо тут было раньше, когда в этой красиво обставленной комнате жили, когда звучал под этими сводами высокий чуть надломленный женский смех, басовитые мужские нотки, топоток детских ног. Мне показалось, я даже слышу эхо этих голосов, вон, у окна в шторах мелькнула тень, раздался шорох шёлкового платья… Из листвы папоротника на меня глянуло мужское лицо с усами и бородой в удивительных круглых очках… Полу испуганная, я пытаюсь вскочить с дивана…
– Смотри, она уснула, – это уже моя бабушка, – вставай, соня!
– Ну, что тебе привиделось? – смеялась она, ведя домой по оживлённой улице. – Уснула на новом месте, приснился жених невесте?
Как я могла сказать ей, что дом говорил со мной?
Деда, испытывая неловкость от той своей сказки, так испугавшей меня, пытался исправить дело старинными загадками.
– Хочешь ли загадку? – спрашивает он меня на дворе.
Я киваю и жду. В усилиях сосредоточиться и не ударить в грязь лицом, я даже рот приоткрываю.
– Бабушка говорит, ты знатный математик, ну, так слушай, шли два солдата. Нашли три яблока, каждый по одному съел и ничего не осталось. Как так?
Я хмурю «чело», смотрю на «персты», сиречь – пальчики, от усердия мысли шевелю ими… Шло же два солдата, взяли по одному яблоку, должно одно яблоко оставаться… Мы с бабушкой уже решали такую задачку, но там точно осталось одно яблоко! Бабушка меня хвалила!
Вслед за дедой я повторяю:
– Как так?
Он хохочет и с триумфом выдаёт секрет:
– С Лушей шли два солдата!
Я смотрю непонимающе. Соль этой шутки до меня не доходит – я не знаю женского имени Лукерья и тем более не знаю, что в деревнях Лукерью звали просто Лушей.
Тогда деда задаёт другую:
– Летела стая, совсем небольшая. Сколько в ней птиц и каких?
Но и тут он терпит поражение – я ещё мала для таких игр в слова.
Отчаявшись, он говорит самую простую:
– Одного мужика свезли в замок. Сидел он там, сидел, есть ему давали один хлеб сухой. А когда его выпустили, то нашли в его камере много рыбьих костей. Так откуда?
Но теперь я даже и не надеюсь разгадать и отвлекаюсь на бабочку.
Деда потерпел неудачу.
Забегая вперёд, скажу, что прелесть этих загадок я оценила много позже, уже в школе. Вот когда я смогла всласть похохотать над стаей из семи сов, или над тем, что мужику в «замке» по-старому, в тюрьме по-новому, давали «хлеб с ухой» – вот вам и рыбьи кости! Но тогда в предосеннем дворе Ирбита эти русские прибаутки оказались мне недоступны, непонятны и преждевременны.
По грибы!
Рано утром мы уже в пути. Дядя Вова наконец везёт нас по грибы. Дед сидит сзади него на седле, мы с бабушкой как всегда в люльке. Я очень хочу спать, мне холодно, я капризничаю. Впервые поездка мне не в радость. Но, денёк разгуливается, а вместе с ним и я. Мы уже в возле леса. Меня встречает белостенная крепость из мощных берёз. Я удивляюсь, отчего вокруг столько берёз? Бабушка рассказывает, что возле Ирбита для них подходящий климат.
– Ну, погода, понимаешь? Тут всегда берёзу рубили и делали из неё самую лучшую фанеру – на аэропланы, это самолёты, поняла? Славился Ирбит своей берёзой без сучков! Слышала, говорят: без сучка и без задорины, это про нашу фанеру. Всюду славилась. Теперь-то самолёты иначе делают, ты же летала, видела.
Я степенно киваю. Я летала, я знаю. Самолёты теперь не деревянные, а железные.
Кряхтя, деда и бабушка сходят с нашего Конька-горбунка. Вернее, деда кряхтя слезает, а бабушка кряхтя вылезает. Нелегко им далась эта поездка.
– Ты понюхай – какой дух тут грибной!
Я старательно нюхаю, да ничего не унюхиваю. Зато обнаруживаю другое. Высокая и густая трава пригнулась от седой росы, над нею низко колышется лёгкая дымка тумана, небо всё в розовых и жёлтых барашках, спешащих на голубые луга. Я сбегаю с шоссейной дороги и тут же сразу промокаю. Но и бабушка не проста, она взяла с собой резиновые сапоги и маленький резиновый плащ для меня. Это за ними она вчера ходила к соседям, ведь там есть дочка-школьница. Плащ мне велик, почти до земли, но – тем лучше! Скоро мы все входим в лиственный лес. Идём гуськом. Дядя Вова не с нами. Он высадил нас в грибном месте, а сам объедет лесок вокруг, там мы и встретимся. Лес кажется мне диким. Я начинаю опять бояться гадкого медведя на липовой ноге. Вот что там шевелится за высокими кустами? Сердечко готово выпрыгнуть, от испуга пропал голос!
Из кустов выходит чужой старик с козой на верёвке. Мой деда ругает его, что он перепугал нас, но чужой дед только смеётся:
– Козы испугались, грибники! За грибами дальше идите, тут уже всё обобрали. А дальше, говорят, косой косить, не перекосить!
Но деда и бабушка ему не очень верят. Они знают, что местные жители ревниво берегут «свои места» и обманывают пришлых грибников. Мы идём и идём. Скоро кусты кончаются и начинается хороший лес. В нём идти легко, большие деревья и низкая трава. Деда сразу уходит от нас – он лесной человек и знает, как искать грибы. А мы с бабушкой просто гуляем. Так я думаю. Но не проходит и пяти минут, как бабушка заглядывает за дерево и кричит:
– Иди сюда, посмотри!
Я спешу к ней. Там в траве стоит гриб! Такой, как на картинке Букваря: коричневая шляпка, толстая высокая ножка, всё при нём, даже берёзовый листик на шляпке лежит! Бабушка аккуратно ножичком срезает ножку и кладёт гриб в корзину. Она говорит:
– Это обабок. Из него грибница хорошая. Ну, суп грибной. Видишь, он под берёзой растёт – значит он подберёзовик.
Бабушка показывает мне, какой это гриб снизу и сбоку, учит, как узнать, что гриб хороший. Она по старой школьной привычке любит обстоятельно рассказывать. Я молчу. Я устала.
Бабушка решает устроить привал. На пригорке она расстилает свой плащ и усаживает меня. А сама начинает с увлечением искать грибы. Она то аукает мне из берёзовой поросли, то забирается всё дальше, и я уже думаю, что она потерялась, начинаю ёрзать от колющего страха, что осталась одна на съедение медведю на липовой ноге, но в это мгновение бабушка подходит сзади и я вздыхаю с облегчением – вот же она! Гордо бабушка показывает мне почти полную корзинку – там уже знакомые мне обабки и другие грибы с яркой красно-оранжевой шляпкой. Бабушка говорит, что это подосиновики – их хорошо жарить. Я уже отдохнула, и мы идём дальше. Место общей встречи бабушке хорошо известно. Мы присаживаемся ещё пару раз, пока, наконец, не приходим туда, где договорились встретиться. Это небольшая лесная тропинка, поросшая травой, как раз, такая, чтобы проехать на мотоцикле. Рядом, на лесной полянке мы и находим дядю Вову и его верного Конька-Горбунка. Деды ещё нет. Мы садимся, и бабушка раскладывает наш обед: куски белого хлеба с маслом, сыр, красные помидоры, холодную варёную курицу и термос с чаем. Солнышко высоко, оно прогнало барашков с синих полей и жарит вовсю. Жужжат полосатые осенние насекомые, про которых бабушка говорила, что они не осы, а только притворяются осами от страха. Я ложусь на спину и гляжу вверх. Мне хорошо и легко, я уплываю белой пушинкой вверх, я парю между берёз, меня тянет ветерком всё выше и выше… Хлоп! Я лечу вниз, потому, что рядом деда раздражённо говорит:
– Тут пусто! Правду старик сказал, обобрали! Одни срезанные ножки! Надо было дальше ехать! Ну что это, только дно закрыл!
В ответ я слышу, как бабушка его утешает:
– Ну, нет, так нет. Зато прогулялись.
Я жду, что она похвастает перед ним своей полной корзиной грибов, но, нет, она не хочет обидеть или ущемить деда и только поддакивает ему. Когда дед наконец изливает свою досаду до самого дна, бабушка потихоньку говорит:
– Да, вредный тот старик был, точно, что он хотел отогнать нас от своего «места». Да знаешь, не вышло у него.
Она замолкает.
Деда нетерпеливо спрашивает:
– Ты места его нашла, что ли?
Бабушка молча и скромно кивает.
– Покажи!
Только тут бабушка демонстрирует свою корзинищу грибов. В ней узором из калейдоскопа застыли коричневые и оранжевые плотные шляпки упитанных грибков. Теперь уже деда счастлив – он не остался без грибницы, без жарёнки!
Мы садимся обедать, деда говорит – чем бог послал. Белый хлеб с маслом и помидор с солью оказались просто неземным лакомством! Я никак не могла наесться. Бабушка и деда с удовольствием смотрят на меня, обычно такую переборчивую в еде и страшную малоежку, но сейчас хватающую еду и вгрызающуюся в неё так, что скоро оказываюсь залита красным соком с ног до головы. А куриная ножка в жёлтом бульонном желе? Ничего вкуснее в жизни я не пробовала!
– Нагулялась, – шепчет бабушка.
Дома мы ужинаем, и я ложусь спать, тая от счастья, предвкушая завтрашний день – мне осталось загнуть только один пальчик!
А утром я слышу над собой тот голос, который я так мучительно долго ждала, самый любимый, самый дорогой:
– Просыпайся, соня, мы едем домой, к маме!
Я раскрываю глаза новому дню, и, радостно засмеявшись, показываю недоумевающему папе свой последний пальчик… а потом торжественно загибаю и его. Мечты сбылись!
Глава 7. Свердловск. Моё бело-зимнее детство. Барак на Красных борцов
На улице Красных Борцов. Я иду в баню
Мы с папой и мамой живём на улице Красных борцов в коричневом бревенчатом доме-бараке. Их, бараков, стоит несколько улиц, между ними вьётся дорожка, проложенная, как мне тогда казалось, строго в беспорядке. Каждую осень асфальт этой дорожки пробивали, проламывали белые шляпки крепких и дружных грибов-шампиньонов.
Теперь я думаю, что до революции на том месте были теплицы или просто помещения, где шампиньоны выращивали, вот грибница и осталась до наших дней. Особо мне нравилось находить вспучивающееся место и расковыривать его прутиком, облегчая «рождение» большого, с две мои ладошки, гриба. Мы их не ели и считали поганками, но баба Маня, о которой расскажу позднее, их собирала и жарила на общей кухне барака.
Наша комнатка была на втором этаже в самом торце здания. Подниматься к нам надо было по некрашеной сосновой лестнице, скрипучей и истёртой ногами и годами. С лестницы открывался вид на широкий и длинный, как проспект, коридор с окнами с одной стороны и дверями жильцов с другой. Кухня была общая, туалет тоже присутствовал в этой барачной (явно, не барочной) архитектуре, но представлял собой неистребимый веками и технологиями вариант уличной будки, даром что в доме. Там было неприятно и страшно. Воняя хлоркой, дыра шла прямо вниз, в выгребную яму. Этого «удобства» жильцы старались избегать, кто как мог. Я видела его только пару раз в моей тогдашней жизни, с облегчением обходясь детской «ночной вазой».
Хотя коридор и обещал просторные хоромы направо, но на деле сами комнатки были просто крошечными. Войдя в нашу дверь, вы сразу утыкаетесь в край печки с маленькой дверцей, и прямо с порога к вам нахально лезет знакомиться коренастый платяной шкаф. За его фанерной «спиной» была воткнута моя кроватка, в ногах её умостился папин письменный стол и стул. Впритык к печке стояла родительская кровать. Дальше было небольшое двустворчатое окно и крохотный обеденный столик под ним. Вот и всё. Протиснуться у нас можно было только бочком.
Заднюю часть шкафа мама, конструктор НИИТЯЖМАШа, закрывала двумя большими листами ватмана – такое искушение для меня! Попробуй удержаться и не нарисовать на зовущем плотном и прекрасном белом листе «красавицу»! Все мои красавицы были однообразны и безобразны, с длиннючей палкой-косой и кривыми треугольными платьями. Украшением нашего быта эти рисунки явно не являлись, и мама, возмущённо ругаясь, спешила заменить их на девственную снежную белизну нового листа. Я не обижалась, так как, когда мой творческий порыв иссякал, я с ошеломлением видела и сама, что мои «красавицы» были нежны, воздушны и неотразимы только в моём воображении, а поселившись на ватмане, они вдруг превращались в неприятных особ с паучьими лапами. Так что я и сама желала их исчезновения и была рада новой свежести листа.
Забегая вперёд, скажу, что с окном у меня тоже была связана интересная «трагедия». Однажды, болея, что, впрочем, было моим обычным состоянием в ту пору, я вопреки запрету родителей перелезла с обеденного столика на узенький подоконничек и села там спиной к стеклу. Меня грело солнышко, было так чудесно… Придремнув, я сильно облокотилась на стекло, и… раздался треск! По случаю пришествия уральского прохладного лета вторые рамы были выставлены, и меня от тротуара внизу отделяло лишь одно тонкое оконное стекло, которое теперь осколками сверкало на асфальте. Удержал меня от падения за ними вслед только переплёт рамы, оказавшийся вовсе не гнилым, а неожиданно крепким. Вечером папа затянул дыру в окне кукольным одеяльцем розового бархату, чем поверг меня в уныние, ибо мой любимый мишка-топтыжка теперь отправился спать неукрытым. Несколько дней мишка мёрз ночами, а потом пришли стекольщики…
Зима… Всю неделю я жду этот вечер. Вот, наконец, суббота, банный день. Сегодня, когда папа вернётся с работы, мы все идём в баню – мыться. Некоторые не понимают, а мне странно – где же ещё? В бараке с этим трудно – ни ванных комнат, ни горячей или ещё какой воды. Воду на каждый день папа носит от той колонки, что во дворе – так маме и папе не помыться.
Я очень люблю ходить в баню. Там весело: играет репродуктор, и песни всё такие хорошие! Там в предбаннике много женщин, они громко судачат, мне интересно слушать или мечтать, при этом грызть морковку или яблоко. Хорошо бы узнать, что сегодня у мамы в фунтике-кулёчка из тетрадного листа?
…С морозной темноты мы входим в здание бани, нас ошеломляет яркий свет и обнимает теплом. Папа степенно платит при входе и взамен получает на нас номерки и шайки (тазы). Тут наши пути расходятся. Папа отправляется в мужское отделение, а мы с мамой заходим в женский предбанник. Какой же шум и гам встречает нас там! Помещение перегорожено многочисленными рядами вешалок с сидениями внизу. Женщины суетятся, кто уже одевается и уходит, а кто, как и мы, только пришёл. Мы находим свой номер и располагаемся. Скинув одежду, спешим в помывочную. О, какая огромная комната, дальних пределов её не видно за клубами горячего пара! Его столько, что в первый момент мы будто слепнем! Но быстро освоившись, ищем, где на длинных скамьях написаны наши номера.
Ага, вот здесь они!
Мама торопится добыть горячей воды, и мытьё начинается! Поставив меня в одну шайку, мама ковшом поливает меня горячей водой из другой. Мне приятно, захватывает дух, когда мама выливает на мою намыленную голову целый большой ковш – горячая вода на секунду вырубает все чувства, кроме абсолютного блаженства… Как же это здорово, после двадцатиградусного холода улицы ощутить на своем теле роскошь горячей воды, льющейся щедрым водопадом! Мочалкой из липового лыка мама трёт меня и причитает, какая я худенькая, изболелась, плохо кушаю, но я не слушаю, вся отдалась радости мытья!
Всё. Кончено мытьё. С приговором на здоровье: «С гуся вода, с дитя хвороба», – меня окатили последней шайкой воды.
Вот я, уже закутанная в простыню, выведена в предбанник, чтобы там «отдохнуть», одеться и ожидать. Я испытываю неземную лёгкость, знакомую людям после русской бани с её мокрым паром, длительным и неспешным мытьём и полной расслабленностью. В светлом и шумном предбаннике, сидя под стояком с одеждой я, уже полностью собранная, жду маму, грызу морковку и слушаю, слушаю. Кажется, я вся превратилась в одни большие заячьи уши.
По радио весёлые девушки поют:
– Навстречу утренней заре,По Ангаре, по Ангаре!
Их звонкие голоса перекрывают обыденность людского гама, ведут куда-то дальше, за кромку ежедневности, туда, где люди все хорошие и сильные, реки синие, ливни обильные, а жизнь прекрасна!
Мне уже видится и пароход, где на палубе танцуют девушки, и берега этой таинственной реки Ангары, нахмуренные еловыми лесами, и звёзды, звёзды, падающие в тёмную воду реки, и как же хорошо на душе! Я счастлива… фиолетовая вода за бортом плещет, а звёзды качаются в волнах, от луны по воде бежит искристая дорожка…
А река бежит, зовет куда-то,Плывут сибирские девчатаНавстречу утренней зареПо Ангаре, по Ангаре.Навстречу утренней зареПо Ангаре.Верят девочки в трудное счастье,Не спугнет их ни дождь, ни пурга:Ведь не зря звезды под ноги падают, падают,И любуется ими тайга.(Музыка – А. Пахмутова, слова – Н. Добронравов)– Не заскучала?
Это уже вернулась мама, она раскраснелась от парной. Мы идём к выходу, там уже мается папа. Мама вертит меня как куклу, надевает тяжёлую шубу, шапку, поверх всего закутывает меня шалью, захватывая рот, повязывая подмышками крест-накрест. Мы же выходим сразу на крепкий мороз ночи! Но, боже мой, как же легко шагать после бани! На улице темно, жёлто мигают качающиеся от ветра лампы фонарей, в конусе их светлого старания наискось густо летят крупные белые хлопья и пропадают в черноте. Снег сухо скрипит и визжит под калошами валенок – хорошо! А в ушах весёлые девушки всё поют – по Ангаре, по Ангаре!
Потом мы идём домой. Я без капризов ложусь спать, сразу засыпаю и не слышу, как папа и мама идут на вымороженный и чёрный чердак, чтобы развесить выстиранное бельё… Я сплю и вижу новогодние сны. В моём сне всё хорошо, чисто и празднично…
Ухо болит…
…Однако, как же нехорошо, тревожно на душе! Я гляжу в окно, там медведем на липовой ноге засела злая и мохнатая тьма. Мне скучно и «тиско». У меня болит ухо. Так болит, словно в голове дёргает током. Мама нервничает и ждёт с работы папу, чтобы вместе ехать в больницу. Зимой на Урале темнеет рано, хотя всё вокруг белым-бело, и застыло навечно высоченными хрусткими стенами сугробов. Снег под луной светится сам, отодвигая тьму, выдавливая её с земли на небо. Да и там звёзды длинными штопальными иголками лучей колют её, прогоняя опять вниз. В конце концов, тьма находит себе пристанище в растрёпанных кронах деревьев и длинных рядах кустарника на бульварах и сидит там, пугая страшилками всех проходящих по бульвару. Я капризничаю и буяню от боли, поэтому папа на дороге поймал такси, хоть эта роскошь нам обычно не по карману, и сейчас мы в уже в приёмном покое больницы. Сквозь пелену боли я вижу старинный особняк с облупленными потолками, уходящими ввысь, теряющимися в неярком освещении, с высокими и широкими окнами, с истёртыми полами, странным образом расположенными на разной высоте: то и дело нам приходится или подниматься на ступеньку, или шагнуть вниз. Я раздражённо спотыкаюсь. Вдоль узких тускло освещённых коридоров по стенам стоят деревянные скамейки с клеёнчатыми сидениями. На стенах висят большие плакаты с картинками, приучающими людей к «культуре гигиены», как возвещают плакаты, или правильному уходу за больным дома. К окнам вплотную лбом прижалась кромешная тьма улицы, манит, поджидает нас снаружи, а здесь с ней борются неяркие лампы под потолком. Не очень-то успешно. Она обращается в полумрак и клубится по углам, прячется под лавками, пугает меня, и я поддаюсь её зову, мне страшно.
Наконец, мы оказываемся в светлом до рези в глазах кабинете, наполненном жёстким блеском и сиянием массы никелированных инструментов зловещего вида, разложенных на эмалированных подносиках и столах. Я уже реву не сдерживаясь. Доктор ласково говорит мне что-то, даёт подержать какие-то тупые и скруглённые на концах щипчики. Я заинтересованно замолкаю. Он смотрит мне ухо и неожиданно резко и быстро прокалывает мне нарыв! Я взвиваюсь и ору благим матом, но меня крепко держат папины руки. Что-то говорит мама, доктор пишет у себя на столе, но я уже понимаю, боль прошла! Уже ничего страшного! Доктор капает мне в ухо и даёт маме пузырёк, потом завязывает меня нашим платком.
– Вы посидите немного в коридоре, потом идите. Позовите следующего.
Успокоенные, мы выходим. На пороге я встречаюсь глазами с мальчиком, глядящим на меня с нескрываемым ужасом – у него тоже болит ухо, но, послушав мои вопли, он теперь боится заходить в кабинет. Его за обе руки тянут в дверной проём, он кричит и упирается. Полная новой мудрости и житейского опыта я важно говорю ему:
– Не бойся, дядя тебя полечит, как меня, и будет не больно!
Он растерянно замолкает, моргает. Его быстро запихивают в дверь.