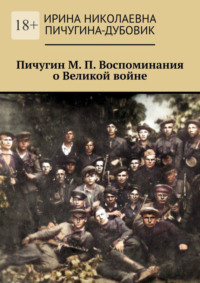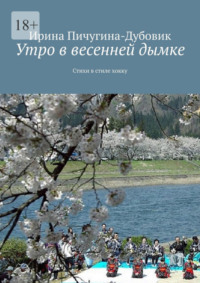Полная версия
Моё разноцветное детство. Для детей и маленьких взрослых
…Приобретать его я отправляюсь во двор. Одна-одинёшенька под чужим серым небом, среди чужого чёрного от весенней грязи хозяйства. Вроде бы весна, но какая робкая, как не похожа она на природное буйство Армавира. Кое-где ещё сохранились черные от грязи оплывшие валы былых сугробов, из-под них текут ручьи, земля раскисла. Солнышка сегодня нет, небо неласковое и клочковатое, воздух хотя и чистый, но мокрый и холодный, да и дышу я с каким-то трудом, со всхлипом, будто что-то застряло в груди и не даёт лёгким развернуться в полную силу.
Внезапно с улицы я слышу папин голос! Меня пронзает бешеная, раскалённая радость – папа здесь, он не уехал! Он – там, за этими высоченными и коричневыми воротами!
Я заметалась… Большая калитка в воротах закрыта накрепко, до щеколды не достать! Как же мне…
Я ринулась вдоль забора.
Ага! Ещё одна калиточка. Крохотная, низенькая, прорубленная в досках забора, мне в самый раз! Я потянула – она раскрылась!
Вот и улица… Где же папа?
По улице мимо меня идёт незнакомый дядя и рассказывает что-то своей тёте… Я обманулась…
Новый приступ горя скрутил меня так, что я согнулась пополам и увидела почти под ногами ледяной ручей грязной талой воды, бегущей в придорожной канавке, вырытой как раз, чтобы отводить с дороги снеговую воду или потоки дождя. Мысль пронзила меня, удивительная сегодня, но показавшаяся мне тогда правильной до гениальности,
– А вот я начну мыть волосы в этой канаве, все вокруг увидят, что я делаю немыслимое и дурное, и поймут, наконец, что я хочу к маме и папе! И отвезут меня к ним!
Сегодня это моё дикое решение и следующее за ним действо назвали бы чудным словом «перфоманс», а тогда это было моё личное изобретение и способ рассказать про страшную, душившую меня муку.
Я быстро развязала ленты шапочки и стала на коленки перед канавой. Вода текла высоко, медленно, в ней ныряли и крутились почти истаявшие кружевные льдинки и щепочки.
Я резко сунула голову в воду.
Сзади меня закричала женщина, потом я услышала топот бегущих ног… Добрые руки подняли меня, грязную и мокрую, вознесли, прижали к груди… Кто-то выпевал слова утешения испуганным прерывистым голосом… Меня понесли назад в дом. Это был, конечно, мой Иван-Царевич. Он вышел за мной и, не увидев племяшки во дворе, в тревоге выскочил наружу. Вовремя.
В доме поднялся переполох. Бабушка и дедушка заохали вокруг меня, нашлась и горячая вода, и чистая одежда, но, главное, нашлось доброе слово бедному, измученному сердечку.
…Через полчаса я, вымытая и закутанная в одеяло, уже восседала на венском стуле у кухонного стола, а рядом сидела, подперев голову рукой и пригорюнившись, моя новая бабушка. Было ясно, что она никак не думала встретить в моём лице столь ярко-артистичного, решительного человечка, умеющего так страшно страдать. И теперь она горько корила себя за ненужную сдержанность, за то, что не обняла меня утром, не поцеловала, не показала мне свою любовь и доброту.
Позади неё сконфуженно топтался мой новый и, как я теперь рассмотрела, на самом деле очень старый дед. Несправедливая жизнь обломала и ожесточила его, столько бед, лишений и испытаний выпало на его долю, что на пятерых хватило бы, вот он и научился виртуозно скрывать эмоции и чувства за крепостными стенами показного равнодушия и суровости, саркастически высмеивая «телячьи нежности» и всякую «фильтикультяпистость». Но в настоящий момент он испытывал приступы жаркого стыда, что не сумел пригреть внучку в самый тяжёлый для неё момент, толкнул в пучины одиночества… Он смотрел на меня жалкими глазами и всё совал и совал мне леденца на палочке.
– На, возьми петушка, хороший… на же, возьми…
Я глянула в его грустные, растерянные глаза и вдруг всё поняла про него – он живо напомнил мне моего сконфуженного папу, когда, давным-давно в солнечном Армавире домашние ругали его за молоточек! И тут мне стало так нестерпимо жаль деда, что я, наконец, разрыдалась, напугав их всех ещё больше.
– Ну что ты, не плачь, ну-ну, будет, всё же хорошо, ты поживёшь с нами чуть-чуть, и домой поедешь, хоть где он, дом-то твой? Ну, подожди, ну-ну, всё-всё…
И дед, и бабушка пытались накрыть, укутать меня своей жалостью и новенькой, только что народившейся у них любовью к маленькой дочке их среднего сына, так похожей лицом на них обоих. Внучка, хоть и от нежеланной невестки, да видно же, что от их корня… Их плоть и кровь. Я соскочила со стула и обхватила колени деда… Тут к нам добавилась и бабушка. Кучей обнявшись все втроём, мы, не стыдясь уже ничего, слезами выпустили чувства на волю.
Вот в этот самый миг и пробился на свет росток горячей и крепкой семейственности. Это оно, неистребимое дерево любви, поднялось, раскинуло вширь ветви, зазеленело надеждами, как листьями, расцвело душистыми цветами слов и дел, обещавшими добрые плоды судьбы.
После этого тяжёлого дня дед и бабушка уже не казались мне чужими, наоборот, я почувствовала, будто знала их всю мою коротенькую жизнь, ясно и сочувственно понимала. Я уже не стеснялась горячо обнимать их и весело щебетать с ними обо всём, что мне было интересно. А они, удивляясь себе, тоже открывались и с удовольствием принимали эти, забытые ими за долгие-долгие немыслимо-страшные годы, проявления открытых чувств. Что же поделаешь, у них было три сына, но никогда ещё не было маленькой и нежной девочки.
Их – была всёсжигающая война, голод, нечеловеческие усилия выжить, тяжёлая, убивающая дух и тело работа. Да вот не было у них отдушины, форточки, куда бы могла выглянуть душа, уставшая от забот, и подышать сладким воздухом детской непосредственности и наивности, привязанности и обожания. Они, как старые деревья, не верили, что их корявый ствол может дать молодую поросль новых веток, которые, как весенние тополя, зашумят маленькими радостями и каждодневным, странным для них, уютом домашнего счастья. Тем самым, что оба они раньше презирали, клеймя «мещанским» и «ненужным сильному человеку». И вот теперь они оба грелись у этого неожиданного для них крохотного костерка наивного обожания.
Постепенно и дед, и бабушка раскрывались передо мной и оказались весьма необычными людьми. На ходу возникали забавные ритуалы: как ложиться спать, что говорить при этом, как шутить друг с другом, как приветствовать друг друга по утрам, да много ещё чего.
Дедова сказка
Вечер. Бабушка умыла меня и приготовила ко сну. Я бегу к деду, который всегда спит в кухне на тёплой и низкой лежанке печи. Он притворяется, что не видит меня и внимательно читает роман-газету. Я танцую перед ним в нетерпении. Наконец, нарочито медленно он опускает свой толстый журнал и как будто только тут замечает меня.
– А, пришла. И что тебе?
– Деда, сказку!
– Ишь ты, сказку ей! А какую?
– Сума, дай ума!
– Не надоело? Вчера же рассказывал, третьего дня рассказал, и сегодня тоже сказать?
– Деда, скажи!
Довольный дед усаживается в постели, хлопает рукой возле себя, показывая, что и мне можно сесть рядом, и начинает,

– Жил был глупый мужик. Был он и работящий, и добрый, да вот беда – бедный. Сколько ни работал – всё мимо рук проходило, ничто в доме его не задерживалось. Была у него жена да табуретка, – деда смеётся, – портки, да топор. Так и жили. Жена ни в чём ему не перечила, всё терпела, работала в доме, да в поле. А из детей у них было три сына. Коли бы старше сыновья были, так помогли бы отцу. Ан, нет. Малы ещё были, неразумны, одна маята да обуза… Только большему рубаху справят – глядь, у среднего уже латка на латке, только среднему справят – у малого прорвалась совсем…
Я знаю эту сказку наизусть. Деда рассказывает мне её каждый вечер, но мне нравится слушать знакомые слова, смотреть, как дед артистично гримасничает, меняет голос, превращаясь то в мудрого медведя, то в глупого мужика, то в богатого соседа. И особенно жду я того момента, когда деда кроит глупое в ожидании лакомств или мирских благ лицо богатого мужика, притащившего домой суму, и показывает, как тот, дрожа от жадности, говорит: «Сума, дай ума!». И я просто умираю со смеху, когда вместо «конфект», или пирогов оттуда выскакивают две колотушки и учат, наконец, плохого мужика уму-разуму по бокам и по хребтине.
Всё.
Добрый мужик стал ещё и умным. Потеряв наивность и доверчивость, он зажил хорошо, а богатый мужик вернул всё, что покрал у бедного.
Сказка окончена. Но, я медлю, тяну время, может быть деда смилостивится ещё и на песню… Просить бесполезно, только хуже будет, вот я и мнусь, жду…
Сегодня мне удача! Дед решает спеть. Он поёт про крейсер «Варяг», и именно с тех самых пор в душу мне запал высокий и героический образ русского моряка и слова, переворачивающие душу, «Погибаю, но не сдаюсь».
Дед с удовольствием и чувством поёт,
– Миру всему передайте, чайки, печальную весть:В битве с врагом не сдалися – пали за русскую честь!А у меня уже глазки на мокром месте… Я понимаю песню через слово, но геройский тон её трогает меня, накрепко впечатываясь в…
Но тут приходит бабушка и разгоняет нас. Пора спать. Здесь ложатся рано, с курами. Бабушка не любит жечь электричество, она сумерничает до последнего светлого блика за окном, всё ближе и ближе придвигаясь со своей работой к окошку. Когда уже иголки в руках не разглядеть, она нехотя нажимает рычажок выключателя, и вспыхивает яркий электрический свет! Но только, чтобы мы смогли совершить все нужные перед отходом ко сну процедуры и ритуалы. А потом неумолимою рукой свет погашен, и звучит неизменное и адресное,
– Спокойной ночи!
С неохотой покорившись бабушкиной воле, мы с дедом желаем друг другу приятных снов, и я, как колобок в сказке, бегу по домотканым, цветным полосам дорожки прямо в мою постельку. Укутавшись в одеяло, обняв топтыжку, я засыпаю и уже вижу море, такое, как на картинке, что днём показывал мне деда. Море зелёное и большое, через прорывы туч в волны упираются острые лучи солнца, а бабушка ясным шепотом говорит,
– Не мала ли она для таких твоих песен?
И будто бы деда отвечает,
– Ничего, она не дура. Что поймёт, что просто запомнит, а поймёт потом. Всё, спокойной ночи.
– Приятного сна…
«Сума, дай ума!»
В одной деревне, да не здесь, а подалее, жил был мужик. Был он и работящий, и добрый, да вот беда – бедный. Сколько ни работал – всё мимо рук проходило, ничто в доме его не задерживалось. Была у него жена да табуретка, портки да топор. Так и жили. Жена ни в чём ему не перечила, всё терпела, работала в доме, да в поле. А из детей у них было три сына. Коли бы старше сыновья были, так помогли бы отцу. Ан, нет. Малы ещё были, неразумны, одна маята да обуза… Только большему рубаху справят – глядь, у среднего уже латка на латке, только среднему справят – у малого прорвалась совсем.
Так и жили, с пустых щей на квас перебивались.
Раз пошёл мужик в лес, дров нарубить. Вдруг слышит, как будто плачет кто-то? Смотрит, пень, а возле пня – медвежонок трётся, ему лапу защемило, он и плачет, скулит, слёзы по мордочке мохнатой так и текут, так и бегут. Пожалел мужик медвежонка, своих таких несмышлёнышей у него было трое. Вырубил он клин, вбил его в расщелину пня и освободил лапу медвежонку. Тот и уковылял на трёх ногах, а больную лапу к груди поджимает.
Нарубил мужик дров, увязал вместе, хотел было за спину закинуть, глядь, а перед ним медведь стоит, огромный, как стог! Перепугался мужик, глаза закрыл – сейчас его этот зверь заломает! Подождал, подождал, потом осторожно разожмурил глаза, а медведь ему что-то подаёт. Поглядел – а то скатерть! И говорит ему медведь человечьим голосом:
– Ты моего сыночка пожалел, пожалею и я тебя. Расстели дома скатерть, ударь по ней три раза и скажи, что тебе поесть угодно. Да смотри, подарок мой никому не показывай!
Удивился мужик, но скатерть взял. Поблагодарил медведя и домой пошёл.
А дома у него чисто светопреставление: дети с голодухи ревут, жена им подзатыльники раздаёт, не тяните, мол, душу!
Тут мужик и решил испробовать медвежий подарок. Говорит своим:
– Глядите, что мне медведь в лесу дал… Сейчас всех вас накормлю.
Постелил скатерть, ждёт, а ничего и не происходит… лежит на столе старая скатерть и всё тут.
Ох, жена мужика на смех подняла, а дети пуще того разревелись… Мужик озлился и как хватит по столу кулаком:
– Вот я дурак, что медведя послушал! Надо было того медвежонка зарубить, мы бы шкуру продали, сейчас бы щи хлебали со краюхою хлеба…
И в тот же миг всё по его словам сделалось: чугунок со щами и краюха хлеба! Тут все мигом за стол уселись и уж ели-ели, пока сытыми не отвалились…
Говорит мужик:
– Медведь-батюшка, прости меня за злые слова, сам я, дурья башка, наказ твой забыл, да и наболтал сдуру. Век теперь тебя благодарить буду, благодетеля.
С тех пор так и пошло.
Постелют скатерть и просят: то щец горяченьких, а то и курочку жареную. Выправились, с лица округлились, работа у мужика пошла так, что загляденье! Никто за ним не угонится.
Да мужик-то жалостивый был, перед соседями, вишь, ему совестно было, что он ест, а они голодают. Вот он и стал тихонько то одного, то другого к себе завывать и от души угощать. Про то слух пошёл, что, мол, был-де он бедняк из бедняков, а теперь людей задарма кормит. Слух и до богатея соседа дошёл. Удивился тот и решил сам всё разузнать. Пришёл к нашему мужику, водки принёс, и ну, упаивать того. Да… упился мужик и выложил соседушке всё, как на духу. И про медведя, и про скатерть.
– А врёшь ты всё, – говорит хитрый сосед. – А ну, покажь!
Взвился тут наш мужик, что его вруном окрестили, достал скатерть и стукнул по ней три раза:
– Подавай нам закуси наиприятнейшей!
Появилась на столе и белорыбица, и соты медовые, и пряники печатные…
У богатого мужика глаза на лоб полезли. Уж не знает, как и домой добрался. А дома говорит жене:
– Ты смастырь мне скатерть, вот, мол, таку и таку, да чтобы старая была, не из новья.
Жена ему и смастырила. А он в следующий раз мужика бедного подпоил, да его скатерть на свою и заменил.
Наутро проспался наш мужик, хрясть кулаком по скатерти, подавай, мол, мне рассолу огуречного!
А вот на тебе! Ничего ему скатерть не даёт!
Уж мужик по скатерти и лупил, и лупил кулаком, ан не вышло. Тут он взвился от досады, да в лес побежал. Бежит и медведя кличет:
– Хозяин, выходи, беда!
Вышел к нему медведь:
– Чего ты взыскался?
– А вот, все руки отбил я об скатерть твою, а она поесть не даёт!
– Да ты бы лучше, чем руки, голову свою дурную об неё отбил! Не видишь, что ли, скатерть не та!
Тут только мужик и углядел, что другая скатёрка-то… Подкосились ноги у него. Как был, так и осел на землю:
– Ах, ты ж, подменил, проклятый… Да ведь отопрётся стервь, я, мол, не я, и лошадь не моя… Чем же теперь детей я кормить-то буду…
Послушал медведь, как мужик воет, причитает, пожалел, видать.
– На тебе другой подарок, да вдругорядь никому его не показывай.
А подарок тот был – кошель старый, пустой совсем. Ну, дарёному коню в рот не смотрят, пожался наш мужик, пожался, поблагодарил и до дому подался.
А дома семья голодная, ждет, чем дело кончится.
– Чего ты принёс? Поправил медведь дело? Дал новую скатерть?
Уконфузился мужик, показывает жене старый кошель, а та его из рук выхватила да и тряхнула, может завалялась внутри денежка-другая… Что же? Посыпалось вдруг из кошеля, зазвенело! Медяк за медяком, вот уже и кучка с горкой! Обрадовались все, мужика на базар снарядили. Вскорости он назад пришёл, всем обновки да подарки принёс: детям леденчиков на палочке, жене плат новый, себе рубаху, да и поесть прикупил.
С тех пор так и пошло. Потрясут кошель над полом, натрясут кучку невеликую и живут себе припеваючи… Да… пока мужику опять, вишь ты, совестно не сделалось, что живут они, в ус не дуют, а у соседей в кармане вошь на аркане. Что поделать? Стал мужик соседям помогать потихоньку: то ребятишкам денежку всунет, то купит чего.
Все опять в сомнениях, как так? Был голь перекатная, а тут – на тебе?
И опять дошло до богатого мужика. Тот уже понимал, что к чему, опять за медвежьим подарком с водочкой подкатил:
– Ты прости меня соседушка, бес меня попутал, прихватил я твою скатерть самобранку, да совесть меня лютая заела. Вот, возьми её назад, и давай мировую выпьем!
Наш мужик уж и отнекивался, да не устоял…
В общем, вдругорядь объегорил его богатый сосед… спьяну-то и подменил кошель мужику, а скатерть самобранку опять с собой унёс.
Как бедолага наш проспался, так и за голову схватился:
– Не отдаст теперь сосед ни скатерти, ни кошеля батюшки медведя… Нет мне, дураку, детушки, прощения… Пойду, попрошу смерти лютой себе за то, что вас по миру пустил…
И пошёл.
Пришёл в лес и кличет-зовёт хозяина лесного.
И тут явился на зов его медведь:
– Чего ревёшь, зайцев-белок пугаешь? Али случилось чего?
Всё ему мужик и рассказал, повинился и смерти себе лютой просить начал.
Подумал медведь:
– Ну что же, всем ты, мужик, хорош – работящий, добрый, жалостивый, совестливый… Только глупый ты. Ой, и глупый! Смерть твоя погодит пока, а на распоследний раз дам я тебе подарочек. Вот тебе сума, да не простая, волшебная. Ты домой иди, всех из дома выгони, дверь запри, да и скажи тихохонько: «Сума, сума, дай ума». Она и даст. А когда поймёшь, что уже довольно тебе ума, ты и скажешь: «Сума, довольно ума». Она и перестанет тебя учить. Только больше ты ко мне в лес не приходи, я с тобой сполна расплатился.
Мужик чуть медведю в ножки не падает, благодарит и обещается, что никому про этот последний подарочек не расскажет.
А медведь, эдак усмехается и говорит мужику:
– А я тебя о том и не просил. Говори, кому пожелаешь.
И ушёл медведь, как его и не было.
Постоял мужик, потоптался, да и домой побрёл. Сума как сума, простая, холщовая. Через плечо, с какой странники да убогие по дорогам шастают, к тому же – пустая.
Ну, тем не менее, мужик дома всех из избы выгнал, как медведь велел, двери запер, суму на гвоздь повесил и говорит тихонечко:
– Сума, сума, дай ума…
Тут из сумы как выскочат две колотушки, и давай мужика по плечам, по спине охаживать! Били-били, пока мужик не вспомнил, да не взмолился:
– Сума, довольно ума!
Тут колотушки и пропали. А мужик лежит на лавке, стонет, больно ему, вишь. Пока лежал, думу думал. Думал-думал и надумал!
Подождал, пока синяки да ссадины заживут, дождался, когда мимо на лошади богатей поедет, стал во дворе своём да как заорёт:
– Ой, счастья-то, счастья-то сколько мне привалило! Уж ни в сказке сказать, ни пером описать! Вот спасибо тебе, медведушка-батюшка! Век за тебя Бога молить буду.
Услыхал то жадный сосед, думает:
– Чем же ещё медведь этого дурня одарил?
Остановил лошадь, слез с телеги, да и во двор. Спрашивает:
– Что ты, соседушка, радуешься так? Али новые подарочки получил? Так давай, обмоем?
– Э, сосед, – мужик наш отвечает, – нет уж, пить с тобою я более не стану, ноне я не тот стал! Это меня медведушка-батюшка умом одарил. Теперь с эдаким умищем я в город подамся, там меня в министры берут. Вот и бумагу прислали! Таперича я генерал – стану на золоте едать, орденами звенеть. А вас, деревенских, к себе и на порог не пущу! Всех в шею!
Разинул богатый сосед рот, так, что муха в него залетела. Закашлялся он, муху наземь плюнул и прохрипел в зависти:
– Генералом… А как это ты таким умным заделался? Научи меня, будь другом дорогим…
А сам думает:
– Два раза мужик не соврал, значит и теперь не врёт, ох, коли быть ему генералом, так мне можно и самим государем сделаться, только облапошить надо дурня, пусть мне этот подарок достанется.
А мужик наш через губу плюёт, подбоченился, на соседа глядеть не хочет. А тот и так, и так, ужом вьётся, уговаривает, мол, поделись со мною!
Наконец сторговались: сосед быстрёхонько домой сбегал и несёт мужику скатерть самобранку и кошель бездонный. Суёт – на, мол, только поделись новым подарочком. Мужик своё взял, испробовал – верные вещи, медвежий подарок – и говорит:
– Ладно, уговорил. Дам тебе попользоваться. Ты дома все двери запри и скажи вот такие слова: «Сума, сума, дай ума». А более мужик ничего соседу не открыл.
Обрадовался сосед, хвать суму и ходу! Дома все окна-двери запер и говорит:
– Сума, сума, дай мне ума!
Выскочили тут две колотушки, да давай богатея-то охаживать, да и жену его тоже. Гоняли-гоняли, пока тот не исхитрился двери-то распахнуть и на улицу вывалиться. Бежит он к мужику, а колотушки не отстают… Добежал, молит:
– Ой, прости, соседушка, обидел я тебя, да ты меня научил, прости, совсем помираю! Научи, как от проклятых колотушек отделаться!
А мужик, знай, смеётся, на эдакую науку глядючи:
– Набрался ли ты, вор, уму-разума? Будешь ли ты бедных обманывать-обижать?
– Ой, не буду, вовек зарекусь, детям накажу…
– Ну ладно, скажи: «Сума, довольно ума».
Сказал так сосед, колотушки в суму и попрятались.
С тех пор наш мужик уже не бедный, а умный, а сосед воровать да обманывать боится… колотушки помнит.
Да, а волшебные вещи мужик медведю вернул – теперь они ему без надобности.
Своего ума палата.
Им и живёт
***
Глава 4. Ирбит. Моё золотое детство
Деревенские дети играют
Мой Иван-Царевич везёт нас с бабушкой в деревню! Там праздник, там соберутся все другие мои бабушки и тётеньки. Кроме того, мне обещали, что там будет много-много детей, и можно будет с ними поиграть!
Бодро катим по просёлочной дороге, дядин конь-огонь фырчит и стреляет, а мы сидим в коляске мотоцикла, укутанные и довольные – в гости же едем! На бабушке надет смешной шлем, плотно прилегающий к голове. Дядя строго приказал нам, что, если на пути встретится милиционер, я должна буду шустро соскользнуть в ноги под кожаный полог. Жду в боевой готовности, но милиционера не видать.
– Смотри вокруг! – говорит бабушка. Я смотрю – поля у дороги уже зелёные молодой травой или всходами, я не различаю чем, но простор такой, что душа поёт! Солнышко наконец освободилось от уральской безнадёги весенних туч и резвится на полях или балуется с берёзами, уже брызнувшими юными листочками. Оно то прячется за белыми стволами вдоль дороги, то неожиданно выпрыгивает из-за них, шалит, бросая пригоршни ярких лучей своих прямо нам в глаза. Ветер приветливо свистит и поёт мне, как старой знакомой, довольный, что вот – свиделись наконец и теперь полетаем на просторе. Мной опять овладевает восторг быстрой езды и такая лёгкость! Лети, лети вперёд, конёк Иван-Царевича! Вези нас в тридевятое царство, тридесятое государство, туда, где ждёт нас пир горой!
Деревня оказалась небольшой, или мне так показалось… Но там, куда мы приехали, было полно людей. Они толклись на дворе и в доме, входили и выходили, смеялись и разговаривали, упирая на «о».
– Анастасия, Володя! Вот и вы приехали, а это кто?
– Да, Николая дочь… Да, пока у нас…
Бабушка вывела меня вперёд и, как большую, представила всем – тотчас вокруг меня закружился хоровод любопытствующих лиц и пытливых глаз. Меня тормошили и разворачивали в разные стороны, пока я не заревела от усиленного внимания. Бабушка выдернула меня из толпы, отведя в сторонку, сурово пристыдила за рёв и повела на задний двор, где на траве дети всех собравшихся гостей играли в загадочную для меня игру. Бабушка постояла, посмотрела и потихоньку ушла ко взрослым.
Зачарованная таким непривычным количеством детей, я уставилась на них, открыв рот.
А играли так.
Став парами друг за другом, взявшись за руки и подняв их кверху, дети образовали «коридор». Пары всё время как-то интересно и весьма быстро продвигались вперёд. Дети пели и пели одну и ту же заунывную песню. Вернее, не пели, а как-то нараспев причитали.
Приглядевшись, я поняла, что всё время то один, то другой остаётся без пары и вынужден выбирать заново. Ограбленный шустро мчал к голове процессии и под песню нырял под «крышу», выхватывая себе новую пару.
– В городе царевна, царевна, – вразнобой голосили дети.
…За городом царевич, царевич,Шла дева Мария, Мария,Царевича манила, манила:– Подойди поближе, поближе,Кланяйся пониже, пониже,Выбирай другую, другую,Царевну молодую, младую…Без конца повторялись эти слова, а живой ручеёк тек и тек по двору. Мне тоже захотелось войти в этот удивительный поток бесконечного движения и слов, я робко подобралась поближе… Но дети были большие, они замечали меня не более, чем весеннего заспанного шмеля, настырно гудевшего где-то неподалёку. Я запрыгала в конце процессии, мешая, путаясь под ногами, надеясь, что старшие заметят моё страстное и горячее желание играть с ними. Наконец, одна девочка смилостивилась и взяла меня за ручку!