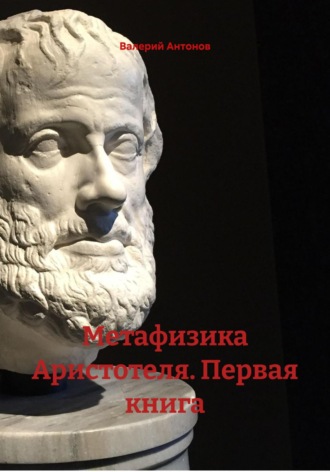
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Первая книга
Аристотель доказывает, что наука о первых началах (πρῶτα) – самая точная, потому что:
· Она имеет наименьшее число предпосылок: Она исходит из самого минимального числа недоказуемых начал (аксиом, определений). Как верно подмечено со ссылкой на An. Post. I, 27, знание, исходящее из меньшего числа предпосылок, точнее того, которое требует дополнительных допущений.
· Она является наиболее абстрактной: Она operates на уровне максимального отвлечения (ἀφαίρεσις) от материальных свойств.
3. Ключевой пример: Арифметика vs. Геометрия
Это классическая иллюстрация Аристотеля, на которую вы верно ссылаетесь (An. Post. I, 25, 27).
· Арифметика: Изучает единицу (μονάς) – сущность без положения (ἄνευ θέσεως). Это максимально простое и абстрактное начало.
· Геометрия: Изучает точку (στιγμή) – сущность с положением (μετὰ θέσεως). Положение – это добавление (πρόσθεσις) к pure количеству.
Следовательно, арифметика точнее геометрии, так как ее объекты проще, и она обходится меньшим числом предпосылок. Более того, геометрия использует арифметические принципы (например, теорию пропорций), но не наоборот. Это доказывает ее главенство и точность.
4. Онтологическое основание: Абстракция vs. Добавление
Абсолютно правы те (в частности, Брандис), кто указывает на противопоставление τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως (то, что постигается через отвлечение) и τὰ ἐκ προσθέσεως (то, что постигается через добавление).
· Математика (τὰ μαθηματικά): Науки об абстракциях. Мысленно отвлекаются от материи и движения, изучая только количественные и пространственные свойства вещей. Метод – ἀφαίρεσις.
· Физика (φυσική): Наука о природных сущих, которые всегда имеют материю и способность к движению. Ее объекты – это математические объекты с добавлением материи (ἐκ προσθέσεως). Метод – учет дополнительного условия (материи).
· Метафизика (πρώτη φιλοσοφία): Наука о нематериальных, неподвижных и вечных сущностях (первых причинах). Она изучает бытие как таковое, в его наиболее чистом и простом виде. Ее объекты еще более абстрактны, чем математические, так как они лишены не только материи, но и количества. Поэтому она самая точная из наук.
Иерархия точности, таким образом, выглядит так: Метафизика -> Математика -> Физика.
Роль комментаторской традицииСсылка на Александра Афродисийского (Schol. 527, a, 2) идеально инкапсулирует(encapsulates) эту мысль: знания, которые исходят из меньшего числа предпосылок и ближе к началам (архиме), более точны. Комментарий (Тренделенбурга и Вайца), как и их ссылка, показывает, что этот принцип был хорошо понят и разъяснен уже в античной и новоевропейской традиции.
Приведеные замечания не просто исправляют нюансы перевода, а вскрывают глубокую системную связь между онтологией и эпистемологией Аристотеля:
Точность знания определяется его близостью к первоначалам. Поскольку предмет метафизики – первые, простейшие и абсолютно абстрактные причины (лишенные материи, положения и движения), она по праву считается Аристотелем наиболее точной (ἀκριβεστάτη) из наук, и в этом заключается одно из главных оснований ее высочайшего статуса.
Различие между διὰ ταῦτα и ἐκ τούτων как основание возможности и действительности познанияВыражения διὰ ταῦτα ("благодаря этому", "по этой причине") и ἐκ τούτων ("из этого", "от этого", "на основе этого") соотносятся как основание возможности и основание действительности, является ключевым для понимания роли первых причин.
1. Смысл различия
Это указывает на материальную или формальную предпосылку, на то из чего или на основе чего возникает знание. Это логический фундамент, набор аксиом, определений и первоначал, которые делают доказательство вообще возможным. Без них умозаключение не может быть построено. Они являются необходимым условием (conditio sine qua non).· Ἐκ τούτων ("из этого", основание возможности): o Аналогия: Строительные материалы (ἐκ τούτων – "из этого" строится дом). Без материалов дома не будет, но сами по себе они домом не являются.
Это указывает на действующую и целевую причину, на то, благодаря чему знание фактически приобретает свою силу, достоверность и завершенность. Это активный принцип, который организует предпосылки в стройное, необходимое доказательство. Это принцип актуализации (principium actuationis), который превращает потенциальное знание в актуальное.· Διὰ ταῦτα ("благодаря этому", основание действительности): o Аналогия: Деятельность архитектора и строителей, цель построить дом (διὰ ταῦτα – "благодаря этому" дом возникает). Это активная сила, превращающая груду материалов в реальный дом.
2. Применение к роли первых причин (πρῶτα αἴτια)
Первые причины являются одновременно и отрицательной предпосылкой (условием возможности), и положительным основанием (принципом действительности) всякого познания.
Первые причины – это тот фундамент, та система аксиом (например, закон противоречия), без которой никакое доказательство и никакая наука невозможны. Они образуют каркас, который не позволяет знанию рассыпаться в бессмыслицу. Они – conditio sine qua non.· Как "отрицательная предпосылка" (ἐκ τούτων): Но они же являются и активным источником познания. Познание чего-либо означает выведение его из его высших причин. Узнать, почему нечто есть так, а не иначе, – значит найти его конечную причину (цель) и формальную причину (сущность). Таким образом, первые причины – это не просто статичный фундамент, а двигатель и цель познавательного процесса. Они – principium actuationis.· Как "положительное основание" (διὰ ταῦτα): 3. Связь с комментарием Александра Афродисийского
Александр (Schol. 641, a, 21) блестяще подтверждает эту мысль. Александр проводит связь между предлогом ἐξ οὗ ("из чего") и понятием ἀρχή ("начало"), а также между δι' ὅ ("ради чего", "благодаря чему") и понятием αἴτιον ("причина").
· Ἀρχή (начало) как ἐξ οὗ: Это отправной пункт, материал, источник. Это соответствует нашему ἐκ τούτων.
· Αἴτιον (причина) как δι' ὅ: Это то, что является активной причиной, целью, ради которой что-то происходит. Это соответствует нашему διὰ ταῦта.
Александр показывает, что грамматическая структура языка отражает онтологическую структуру мышления Аристотеля: различие между пассивным источником и активной причиной.
4. Связь с Anal. Post. I, 24
В 86a 6-22 Аристотель обсуждает, почему знание через общее (καθόλου) "в большей степени есть знание" (μᾶλλον ἐπιστήμη), чем знание через частное. Его аргумент в том, что знание через общее раскрывает причину (τὸ αἴτιον). Мы знаем не просто что нечто есть, но и почему оно есть, только когда выводим частное из всеобщей причины.
Всеобщие причины (πρῶτα αἴτια) являются не просто предпосылкой (ἐκ τούτων) для вывода, но и тем, благодаря чему (διὰ ταῦτα) мы получаем подлинное, причинное знание.
Различие между ἐκ τούτων и διὰ ταῦτα отражает фундаментальное онтологическое различие между материей/формой (как условием) и действующей/целевой причиной (как источником движения и осуществления). Первые причины у Аристотеля выполняют обе эти функции, что и делает их абсолютным основанием всякого бытия и познания.
Комментарий к Met. III, 2, 996a18-21«ἐκ μὲν οὖν τῶν πάλαι διωρισμένων, τίνα χρὴ καλεῖν τῶν ἐπιστημῶν σοφίαν, ἔχει λόγον ἑκάστην προσαγορεύειν. ἡ μὲν γὰρ ἀρχικωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη, καὶ ἡ ὥσπερ δούλας ἀντειπεῖν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας δίκαιον, ἡ τῷ τέλει καὶ τἀγαθῷ τοιαύτη· τούτου γὰρ ἕνεκα τάλλα.»
Перевод: «Исходя из ранее данных определений [того], какую из наук следует называть мудростью, есть основание называть [мудростью] каждую [из нижеследующих]. Ибо [мудростью] по праву можно считать ту науку, которая в наибольшей степени является начальствующей (ἀρχικωτάτη) и руководящей (ἡγεμονικωτάτη) и которая, словно госпожа, вправе приказывать другим наукам, – [а именно] ту, которая [имеет дело] с целью и благом (τῷ τέλει καὶ τἀγαθῷ); ибо ради этого (τούτου γὰρ ἕνεκα) существует всё остальное.»
Анализ и связь с предыдущим обсуждением:Этот отрывок подводит итог рассуждениям Книги I и выводит их на новый уровень, вводя явным образом телеологический критерий как высший.
Аристотель прямо отсылает нас к Главе 2 Книги I, где через анализ ἔνδοξα о мудреце были выведены предикаты мудрости: знание всего (всеобщего), знание труднейшего, знание причин, самоценность. Здесь он синтезирует их.1. Ссылка на "ранее данные определения" (ἐκ… τῶν πάλαι διωρισμένων): Аристотель объединяет два ключевых аспекта:2. Высший синтез: Архитектоника и Телеология: o Властный аспект (ἀρχικωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη): Мудрость – это наука, которая правит другими. Это та самая «наука, которая главенствует над другими» из I, 2. Она дает другим наукам их принципы и цели (например, медицина использует достижения физики и химии, но ее цель – здоровье – задается извне, этикой или метафизикой блага).
o Телеологический аспект (ἡ τῷ τέλει καὶ τἀγαθῷ): Основанием этой власти является то, что мудрость имеет дело с высшей целью и высшим благом (τὸ ἄριστον). Это кульминация всего рассуждения. Власть первой философии основана не на силе, а на том, что все прочие науки и виды деятельности сущностно направлены к некоторому благу, а она одна изучает Благо как таковое, конечную причину всего сущего.
Это формула телеологической причинности. Первая философия является главнейшей именно потому, что ее объект – то, ради чего (οὗ ἕνεκα) существует всё остальное: и другие науки, и мироздание в целом. Она изучает конечную причину всех причин.3. Ключевой аргумент: "Ибо ради этого существует всё остальное" (τούτου γὰρ ἕνεκα τάλλα): Связь с иерархией наук:
Этот отрывок проясняет иерархию наук, которую мы намечали ранее через призму «точности»:
1. Частные науки (например, кораблестроение): изучают частные блага (построить корабль).
2. Науки более общие (например, политика): определяют, ради чего строить корабли (ради торговли, обороны – т.е. более общего блага государства).
3. Первая философия (Метафизика): Изучает самое первое и всеобщее Благо (τἀγαθόν), которое является конечной целью не только человеческой деятельности, но и всего миропорядка. Она – «царица наук», потому что задает сам смысл и направление всякого познания и действия.
В этом отрывке из Книги III Аристотель окончательно утверждает, что определение мудрости как науки о первых причинах (αἰτιολογική) находит свое высшее выражение и оправдание в ее понимании как науки о высшей цели и высшем благе (τελεολογική). Именно телеологический аспект, идея «того, ради чего», делает первую философию в полном смысле слова архитектонической и руководящей наукой (ἀρχικωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη), завершая ее системное определение.
Комментарий Альберта ШвеглераПредложение Сильбурга написать ὑπὸ вместо ἐπὶ упускает смысл нашего отрывка. Πίπτειν ὑπὸ обозначает отношения субординации, в которых отдельное или конкретное входит в вышестоящее родовое понятие, например, Plat. def. 416.: ἐναντιότης τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος κατά τινα διαφορὰν πιπτόντων ἡ πλείςη διάςασις: так и у самого Аристотеля, напр. Met. XIV, 6, 7. top. I, 5. 102, a, 37. Rhet. 1, 2. 1357, b, 29. 35, хотя он чаще употребляет выражение πίπτειν или ἐμπίπτειν εἰς τι ὡς γένος, напр. Met. I, 5, 7. IV, 2, 28. V, 2, 9. Χ, 5, 4. ΧΙ, 7, 7. XII, 5, 4. Polit. II, 8. 1268, b, 26. Top. I, 1. 101, a, 11. Soph. Elench. 169, a, 18. 181, b, 19. 183, b, 39. Наш отрывок, однако, не означает этого, τὸ ζητάμενον ὄνομα, т. е. понятие σοφία, являющееся предметом ζήτησις, подпадает под одну и ту же науку, но оно составляет одну науку, его различные характеристики, как они выявились в вышеизложенном, попадают в одну общую сферу, сходятся в одной науке. Рассматриваемое понятие (τὸ ζητέμενον ὄνομα) и эта Единая наука, вытекающая из предыдущего рассуждения, должны вести себя не как подчиненное понятие по отношению к вышестоящему, а как два понятия, которые совпадают. Поэтому она должна называться πίπτειν ἐπὶ и не может называться πίπτειν ὑπὸ.Текст Швеглера: …так что исследование сущего как такового относится к одной некоей науке.Оригинальный текст Аристотеля (Met. IV, 1, 1003a 21-26): …ὥστε πίπτει ἐπὶ μίαν τινὰ ἐπιστήμην τὸ ὂν ἢ ὂν θεωρῆσαι. Разъяснения к ссылкам Швеглера:
[1] Plat. def. 416. (Приписываемые Платону «Определения»): «ἐναντιότης τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος κατά τινα διαφορὰν πιπτόντων ἡ πλείςη διάςασις» – «Противоположность есть наибольшее различие тех [вещей], которые подпадают под один и тот же род согласно некоторому различию». Швеглер использует этот пример, чтобы показать стандартное использование ὑπὸ для обозначения логической субординации (частное подпадает под общее, вид под род).
[2] Met. XIV, 6, 7 (1093b 21) – Аристотель критикует пифагорейское отождествление чисел и вещей: «…οὐθὲν γὰρ ἧττον ἔσται πλειόνων ἀριθμὸς ὁ αὐτός, εἰ ἐπὶ πλειόνων ἐστίν. εἶδος δ' ἐστὶν ἓν ὧν ὑπὸ τὸν αὐτὸν λόγον πίπτει» – «…один и тот же число будет принадлежать большему количеству [вещей], поскольку он присущ многому. Вид же един у тех [вещей], которые подпадают под одно и то же определение». Здесь ὑπὸ четко указывает на подчинение множества индивидуальных вещей (τῶν) единому видовому понятию (λόγον).
[3] Top. I, 5. 102, a, 37 – В «Топике» Аристотель объясняет, что такое род: «Γένος ἐστὶ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῷ εἴδει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούμενον, οἷον ζῷον κατὰ ἀνθρώπου καὶ ἵππου καὶ κυνός» – «Род есть то, что сказывается о многих, различных по виду [вещах] в ответ на вопрос "что это есть?"; например, "живое существо" [сказывается] о человеке, лошади и собаке». Контекст «Топики» целиком построен на отношениях подчинения видов родам, где использование ὑπὸ (под) является стандартным.
[4] Rhet. 1, 2. 1357, b, 29. 35 – В «Риторике» Аристотель обсуждает термины: «…ὅταν ἀμφοτέρων ὄντων καθόλου, ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος πίπτη τὰ κείμενα…» – «…когда оба [термина] являются общими и подпадают под один и тот же род…». И снова ὑπὸ обозначает отношение подчинения частных случаев общему родовому понятию.
Аристотель использует термины ἀγαθὸν и οὗ ἕνεκα здесь, как и в других местах, как взаимозаменяемые. Ср. Мет. I, 3, 1. III, 2, 2. 8. V, 1, 10. 2, 12. XI, 1, 8. Phys. II, 2. 194, a, 33. Anal. Post. II, 11. 95, a, 8. rhet. I, 6. 1363, a, 5. Eth. Nic. I, 1. 1094, a, 2 ff. III, 4. 1111, b. f. Polit. I, 2. 1252, b, 34 f. III, 12. 1282, b, 15.Текст Швеглера: «Мудрость есть наука об известных началах и причинах» … «Причин же четыре: … то, ради чего [делается что-либо], и благо»Оригинальный текст Аристотеля (вероятный контекст, например, Met. I, 2, 982b 4-7 или I, 3, 983a 31-32): «ἡ σοφία περί τινας ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐστὶν ἐπιστήμη» … «αἰτία δὲ τέτταρες· … τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τἀγαθόν» Разъяснения к ссылкам Швеглера:
[5] Met. I, 3, 1 (983a 31-32) – Аристотель перечисляет четыре причины: «αἰτία δὲ τέτταρες· … τετάρτη δὲ ὡς τέλος· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα, οἷον τοῦ περιπάτου ἡ ὑγίεια» – «Причин же четыре: … четвертая – как цель; а это есть то, ради чего, например, ради здоровья [совершается] прогулка». Непосредственно далее, в 983b 6-7, он отождествляет цель с благом: «τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν τέλος ἐστίν» – «Благо и прекрасное есть цель».
[6] Phys. II, 2. 194, a, 33 – В «Физике» Аристотель также говорит о причине «ради чего»: «ἔτι τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον· ὡς δὲ τοιοῦτον ἡ φύσις, καὶ ἕνεκα τοῦ βελτίονος» – «Далее, то, ради чего и цель есть наилучшее; а природа есть нечто такое и существует ради лучшего». Здесь τὸ οὗ ἕνεκα (то, ради чего) прямо связывается с понятием лучшего (βέλτιστον), то есть блага.
[7] Eth. Nic. I, 1. 1094, a, 2 ff – В начале «Никомаховой этики» Аристотель заявляет: «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ· διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, οὗ πάντ' ἐφίεται» – «Всякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и сознательный выбор, как принято считать, стремятся к некоему благу; потому и удачно определили благо как то, к чему все стремится». Это классическое отождествление цели (οὗ ἕνεκα) любого действия с представляемым благом (ἀγαθόν).
Данная структура демонстрирует метод Швеглера: тщательный филологический анализ конкретного термина (ἐπὶ vs ὑπὸ) через сравнение его употребления у Аристотеля и других авторов с приведением обширного списка перекрестных ссылок для подтверждения своей интерпретации.
[15] Комментарий Альберта Швеглера
Все помнят платоновскую параллель к этому отрывку, Theaet. 155, C. D.: Θεαίτ. Καὶ νὴ τὸς θεύς γε, ὦ Σώκρατες, ὑπερφυῶς ὡς θαυμάζω, τί ποτ ἐςὶ ταῦτα, καὶ ἐνίοτε ἀληθῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ. Σωκ. – μάλιςα γὰρ φιλοσόφο τῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζεινὁ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη, καὶ ἔοικεν ὁ τὴν Iριν Θαύμαντος ἔκγονον φήσας ἐ κακῶς γενεαλογεῖν («Θεαίτ. И клянусь богами, о Сократ, как я удивляюсь, что же это такое, и иногда, действительно глядя на это, я погружаюсь в смятение. Сокр. – ведь это, пожалуй, философская страсть, удивление – ведь это и есть начало философии, и похоже, что тот, кто говорит, что он потомок Таума, неправильно генеалогизирует.»). Другое в Davisius on Cic. de nat. deor. I, 3.Текст Швеглера: То, что метафизика является теоретической, а не продуктивной, художественной (ποιητική) наукой (ср. об этом и о понятии ποιητική Met. VI, 1, 7 и далее), следует, говорит Аристотель, из первых начал философствования. Удивление, отчуждение, было первоначальной причиной всех философских размышлений. Но удивление – это чувство незнания, импульс исследовательского инстинкта, теоретического инстинкта. Оригинальный текст Аристотеля (Met. I, 2, 982b 11-28):
Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα τῶν ἀτόπων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν οὕτω προϊόντες καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περὶ τε τῶν τῆς σελήνης παθημάτων καὶ περὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ ἄστρων καὶ περὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. ὁ δὲ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν (διὸ καὶ ὁ φιλόμυθος φιλόσοφός πώς ἐστιν· ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων)· ὥστ' εἰ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν. μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός· σχεδὸν γὰρ πάντων ὑπαρχόντων τῶν ἀναγκαίων καὶ πρὸς ῥᾳστώνην καὶ διαγωγὴν τότε ἤρξαντο ζητεῖν τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην. δῆλον οὖν ὡς δι' οὐδεμίαν αὐτὴν ζητοῦμεν χρείαν ἑτέραν, ἀλλ' ὥσπερ ἄνθρωπος, φαμέν, ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου ὤν, οὕτω καὶ αὕτη μόνης οὖσα ἐλευθέρα τῶν ἐπιστημῶν· μόνην γὰρ αὕτη αὑτῆς ἕνεκέν ἐστιν.
Ибо и теперь, и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например, о сменах фаз Луны, о Солнце и звездах и о происхождении вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим (потому-то и любящий мифы есть в некотором смысле философ, ибо миф составлен из удивительного); так что если философствовали, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-то пользы. И подтверждает это то, что получилось: почти все необходимые [для жизни] средства, [средства] для облегчения жизни и для времяпрепровождения уже были [созданы], когда [люди] стали искать такого рода понимание. Стало быть, ясно, что мы ищем его не ради какой-то иной потребности, но, подобно тому как, говорим, свободный человек – это тот, кто существует ради самого себя, а не ради другого, так и эта [наука] единственная свободная, ибо она одна существует ради самой себя.
Разъяснения к ссылкам Швеглера:
[1] Met. VI, 1, 7 (1025b 18-25) – Аристотель четко разделяет науки на теоретические (θεωρητικαί), практические (πρακτικαί) и продуктивные, творческие (ποιητικαί). Цель теоретических наук – знание ради самого знания, практических – действие, а продуктивных – создание вещи, отличной от самого действия (например, создание статуи или дома). Метафизика, как первая философия, является высшей формой теоретического знания. Швеглер отсылает к этому месту, чтобы подчеркнуть, что классификация наук у Аристотеля системна, и статус метафизики как незаинтересованного теоретического поиска не случаен.
[2] Theaet. 155, C. D. – Это знаменитое место из диалога Платона «Теэтет», где Сократ провозглашает удивление (θαυμάζειν) началом философии. Швеглер проводит параллель, показывая, что Аристотель не изобретает эту идею, а развивает и систематизирует мысль, уже существовавшую в сократико-платоновской традиции. У Платона удивление также связано с состоянием незнания (ἀγνοεῖν) и является страстью (πάθος), специфической для философа. Упоминание Ириды (радуги) как дочери Тавманта (божества чудес) – это поэтическая метафора, которую Сократ (у Платона) переосмысляет, утверждая, что истинным «потомком» Удивления является не радуга, а философ.
[3] Davisius on Cic. De nat. deor. I, 3 – Эта ссылка указывает на комментарий учёного-гуманиста Иоахима Перьона (латинизированное имя – Ioachimus Perionius, или в латинском варианте, который мог использовать Швеглер, Daviesius), к работе Цицерона «О природе богов» (De natura deorum). В первой книге, главе 3, Цицерон, излагая взгляды эпикурейцев, также касается вопроса о происхождении философии, связывая его с потребностью познать природу вещей, что проистекает из чувства удивления и незнания. Швеглер, будучи глубоким эрудитом, показывает, что тема «удивления как начала философии» была общим местом не только у греков, но и в более поздней античной и ренессансной традиции комментаторов.
[17] Комментарий Альберта Швеглера
εἰδέναι и ἐπίςασθαι используются Аристотелем во многих местах как взаимозаменяемые термины, например, Anal. post. I, 2. 71, b, 16 f. Met. II, 2, 14; часто он ставит их рядом друг с другом как синонимы, например, Phys. I, 1. 184, a, 10. (: τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίςασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους); в нашем отрывке, однако, он, кажется, различает их как цель и средство, результат и процесс, цель и путь, который предстоит пройти. Аналогичное различие можно найти в Anal. Post. 1, 3. 72, b, 13: εἰ μὴ ἔςι τὰ πρῶτα εἰδέναι, οὐδὲ τὰ ἐκ τούτων ἔςιν ἐπίςασθαι ἁπλῶς οὐδὲ κυρίως, согласно которому ἐπίςασθαι, по-видимому, относится к εἰδέναι, как ἐπιςήμη к vous или производное знание к знанию принципов. Но это различие не наблюдается в других местах. Ср. напр. E.g. Eth. Nic. VI, 3. 1139, b, 34.Текст Швеглера: Оригинальный текст Аристотеля (Met. I, 2, 982b 19-22):
ὥστ' εἰ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν.
Так что если философствовали, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию (τὸ ἐπίστασθαι) стали стремиться ради понимания (διὰ τὸ εἰδέναι), а не ради какой-то пользы.
Разъяснения к ссылкам Швеглера:
[1] Anal. post. I, 2. 71, b, 16 f – Аристотель определяет научное знание (ἐπίστασθαι): «Ἐπίστασθαι δὲ οἰόμεθ' ἕκαστον ἁπλῶς… ὅταν τὴν τ' αἰτίαν οἰώμεθα γινώσκειν δι' ἣν τὸ πρᾶγμά ἐστιν» – «Мы считаем, что понимаем (ἐπίστασθαι) что-либо абсолютно… когда мы считаем, что знаем причину, по которой вещь существует». Здесь ἐπίστασθαι является сложным, обоснованным знанием, включающим знание причин. Швеглер указывает, что часто это различие между простым знанием-фактом (εἰδέναι) и обоснованным знанием-пониманием (ἐπίστασθαι) стирается, и термины используются как синонимы для обозначения знания вообще.
[2] Met. II, 2, 14 (994b 32) – Аристотель рассуждает о бесконечном regressus в причинах: «ὥστ' εἰ μή ἐστιν ἄλλη αἰτία, οὐκ ἂν εἴη τοῦτο εἰδέναι οὐδ' ἐπίστασθαι» – «так что если нет другой [первой] причины, то нельзя было бы ни знать (εἰδέναι), ни понимать (ἐπίστασθай) эту [последнюю причину]». Здесь оба инфинитива поставлены рядом в отрицательной конструкции, усиливая мысль о полном отсутствии знания, что также указывает на их синонимичное использование в подобных контекстах.
[3] Phys. I, 1. 184, a, 10 – В начале «Физики» Аристотель описывает естественный процесс познания: «τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους» – «Знание и понимание (т.е. процесс достижения знания) случается относительно всех методов [исследования]». Эта фраза прямо подтверждает точку Швеглера: Аристотель часто использует эти термины вместе как тавтологическую пару для обозначения знания в его полноте.
[4] Anal. Post. 1, 3. 72, b, 13 – Это ключевое место для тонкого различия, которое Швеглер обнаруживает в метафизическом отрывке: «εἰ μὴ ἔστι τὰ πρῶτα εἰδέναι, οὐδὲ τὰ ἐκ τούτων ἔστιν ἐπίστασθαι ἁπλῶς οὐδὲ κυρίως» – «Если нет [возможности] знать (εἰδέναι) первые [принципы], то и то, что вытекает из них, нельзя понять (ἐπίστασθαι) абсолютно и в собственном смысле». Здесь εἰδέναι относится к непосредственному, недемонстрируемому усмотрению первых начал (архэ), в то время как ἐπίστασθαι – к опосредованному, демонстрируемому знанию выводов, которые из этих начал следуют. Это соотношение «знание принципов -> понимание следствий».
[5] Eth. Nic. VI, 3. 1139, b, 34 – В «Никомаховой этике» Аристотель, говоря о научном знании (ἐπιστήμη), определяет его через глагол ἐπίστασθαι: «εἰ δὴ τὸ ἐπίστασθαι ἐστὶν οἷον λάβομεν ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς» – «Если же понимать (ἐπίστασθαι) – это [значит] так, как мы приняли в "Аналитиках"». Далее он описывает это как знание необходимого и вечного. В этом контексте ἐπίστασθαι является техническим термином для высшего типа знания, и здесь нет явного противопоставления его εἰδέναι, что подтверждает утверждение Швеглера о вариативности употребления этих терминов у Аристотеля.











