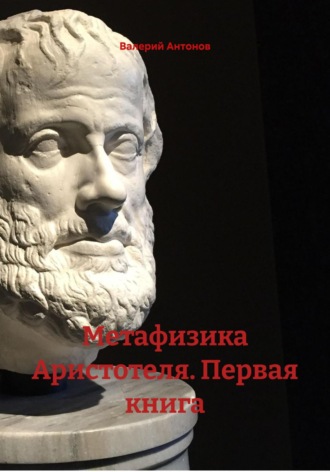
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Первая книга
2. Прагматическая причина: ответ на вызовы природы
Однако, в противовес Аристотелевскому объяснению через «досуг», существует иная, прагматическая версия происхождения геометрии, связанная с хозяйственной необходимостью. Ее главным источником является Геродот:
Геродот, История II, 109: «[Царь Сесострис] разделил землю между всеми египтянами, дав каждому равный по площади quadrilateral. Если же река отнимала что-либо от какого-нибудь участка, то он посылал людей осмотреть и измерить, насколько участок стал меньше, чтобы заставить владельца платить налог пропорционально [убытку]. Мне кажется, что отсюда и пошла геометрия, а затем она была перенесена в Элладу».
Этот рассказ указывает на внешнюю причину: необходимость ежегодного восстановления границ земельных участков (κτήσεις) после разливов Нила, что требовало навыков точного измерения – «землемерия».
3. Развитие традиции у поздних авторов
Традиция, связывающая геометрию с разливами Нила, была развита последующими авторами:
· Ямвлих, Жизнь Пифагора, 29: «Среди египтян существует множество геометрических задач; из-за разливов и спадов Нила они вынуждены измерять всю землю… поэтому это также называлось геометрией».
· Сервий, Комментарий к Буколикам Вергилия III, 41: «Это искусство было изобретено в те времена, когда Нил, разливаясь больше обычного, стирал границы владений, побуждая философов заново определить их с помощью линий».
Синтез двух причинЭти две версии – Аристотелевская (теоретико-досуговая) и геродотовская (прагматически-необходимая) – не являются взаимоисключающими. Напротив, они дополняют друг друга:
1. Практическая необходимость (измерение земли) создала набор эмпирических правил и техник («эмпирическую геометрию»).
2. Досуг жреческой элиты предоставил возможность абстрагировать эти практические знания от конкретных задач, систематизировать их, доказать общие теоремы и превратить в теоретическую науку (ἐπιστήμη) в собственном смысле слова.
Египет предоставил и материал для геометрии (землемерие), и социальные условия (жреческий досуг) для ее превращения в науку, которую греки, по словам Геродота, «перенесли к себе» и довели до высочайшего уровня абстракции.
[24] Различие между ἐπιστήμη и τέχνη у Аристотеля: знание против умения
В шестой книге «Никомаховой этики» (Eth. Nic. VI, 3. 4. 1139b ff.) Аристотель проводит фундаментальное разграничение между двумя интеллектуальными добродетелями: ἐπιστήμη (научное знание, episteme) и τέχνη (искусство, ремесло, умение, techne). Это различие основано на природе их объектов и цели.
1. Ἐπιστήμη (Научное знание)
· Объект: То, что не может быть иным (ἀναγκαῖον), то есть необходимое и вечное бытие.
«…ἡ μὲν ἐπιστήμη τοῦ ἀναγκαίου» («…episteme [есть знание] необходимого»).
· Цель: Познание (γνῶναι) и постижение бытия. Это знание ради самого знания.
· Характер: Доказательное, аподиктическое. Оно имеет дело с универсальными и неизменными истинами.
«ὅταν γὰρ εἴδωμεν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, τότε εἰδένai οἰόμεθα» («Ибо когда мы знаем, что не может быть иначе, тогда мы считаем, что обладаем знанием»).
· Следствие: Поскольку объект ἐπιστήμη необходим, он вечен (ἀΐδιον), несотворим и неуничтожим.
2. Τέχνη (Искусство/Ремесло)
· Объект: То, что может быть и не быть (ἐνδεχόμενον), то есть возможное, сфера становления и порождения.
«ἡ δὲ τέχνη… τοῦ ἐνδεχομένου ἄλλως ἔχειν» («techne же… [есть знание] того, что может быть иначе»).
· Цель: Созидание (ποιῆσαι), порождение бытия. Это знание, направленное на действие и создание чего-либо.
· Характер: Производящий, творческий. Его принцип (архэ) находится в творце (ἐν τῷ ποιοῦντι), а не в самом создаваемом предмете.
· Важный нюанс: Τέχνη может иметь дело и с необходимыми вещами (например, с природными процессами), но только тогда, когда рассматривает их с точки зрения созидания, а не как данное бытие.
3. Обобщение в других трудах
Это различие является стержневым для всей системы Аристотеля и повторяется в других его работах. Ключевой параллельный отрывок:
· Anal. post. II, 19. 100a6-9:
(«…из опыта или из всего общего, что успокоилось в душе… возникает начало искусства (techne) и знания (episteme)… если это касается возникновения [γένεσις] – то искусства, если же касается сущего [τὸ ὄν] – то знания»).«…ἐκ δ ἐμπειρίας ἢ ἐκ παντὸς ἠρεμήσαντος τοῦ καθόλου… γίνεται τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης… ἐὰν μὲν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης.» Здесь ясно видно:
· Τέχνη имеет дело с γένεσις (становление, порождение).
· Ἐπιστήμη имеет дело с τὸ ὄν (бытие как таковое).
Аристотель проводит четкую демаркационную линию:
· Ἐπιστήμη – это теоретическое знание (физика, математика, метафизика), предмет которого вечен и неизменен.
· Τέχνη – это практическое умение (строительство, медицина, риторика, поэзия), предмет которого изменчив и относится к сфере человеческой деятельности.
Это различие не только классифицирует виды знания, но и отражает онтологическую иерархию Аристотеля: необходимое и вечное бытие стоит выше изменчивого мира становления.
[25] Разъяснение понятия мудрости (σοφία) у Аристотеля
Аристотель использует термин «σοφία» в нескольких значениях, что важно для понимания его мысли:
1. В узком и высшем смысле: Согласно предшествующему обсуждению в «Метафизике», это наука о первых причинах и принципах, то есть высшая, чисто теоретическая форма знания.
2. В более общем смысле: В «Никомаховой этике» (VI, 7, 1141a 9) Аристотель отмечает, что термин «мудрый» (σοφὸς) может относиться к выдающимся мастерам своего дела (τέχνη), таким как скульптор Фидий или архитектор Поликлет. В этом контексте σοφία обозначает не что иное, как художественное совершенство (ἀρετὴ τέχνης) – высшее мастерство в конкретном искусстве.
3. Строгое философское различение: Однако истинно мудрым (σοφὸς) называют не того, кто мудр в частностях, а того, кто мудр абсолютно (ὅλως σοφόν), то есть кто постигает самые высшие принципы (ἀρχαὶ). Здесь Аристотель проводит аналогию: как мастер-кораблестроитель (более знающий об общей конструкции) авторитетнее простого плотника (знающего о частностях), так и мудрец, познающий первые причины, авторитетнее любого другого знатока.
4. Синтез интуиции и знания: В «Большой этике» (Magna Moralia I, 35, 1197a 24) дается ещё более точное определение: мудрость (σοφία) состоит из сообразительности (ἀγχίνοια) и научного знания (ἐπιστήμη). Она обращена как к самим принципам, так и к тому, что выводится из них посредством доказательства. Аспект, связанный с принципами, относится к интуитивному уму (νοῦς), а аспект, касающийся следствий из принципов, – к научному знанию, соединённому с доказательством.
Литература для дальнейшего изучения
· Первоисточник: Аристотель. Метафизика. Книга I (А), 1-2. Именно в этих главах разворачивается обсуждаемая дискуссия.
· Античный комментарий: Scholia in Aristotelem (Схолии к Аристотелю). Цитируемые фрагменты (523, a, 43; 525, b, 13; 525, b, 35) принадлежат перу Александра Афродисийского, одного из важнейших античных комментаторов Аристотеля.
· Современные исследования:
o Zeller, E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. (Философия греков в её историческом развитии). – Фундаментальный труд по истории античной философии, где подробно разбирается учение Аристотеля.
o Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. – Классический комментарий к «Метафизике» на английском языке.
o Ахманов, А. С. Логическое учение Аристотеля. – Содержит анализ методологии Аристотеля, включая его работу с понятиями и мнениями.
o Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – Для глубокого понимания Аристотелевской терминологии и её контекста.
Аристотелевское определение мудрости как науки о первых причинах представляет собой не просто абстрактную дефиницию, а результат рефлексии над универсальными предпосылками человеческого познания, облеченный в строгую философскую форму.
Глава 2.
Однако теперь, когда мы находимся в процессе исследования этой науки, [1] необходимо более точно определить, на каких основаниях и по каким принципам наука является мудростью. Это станет ясно, если мы сделаем преобладающие предположения [2] о мудреце.
[2] «… ληπτέον ἐκ τῶν ὑποκειμένων περὶ τὸν σοφόν.» (Arist. Met. 982a 3)[1] «ἐπειδὴ δὲ ζητοῦμέν τινα τὴν ἐπιστήμην ταύτην, δεῖ διαλαβεῖν περὶ αὐτῆς, ἐκ τίνων καὶ πῶς δεκτέον, ὅτι ἐστὶ σοφία…» (Arist. Met. 982a 1-3) Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 17): Аристотель переходит от констатации существования искомой науки к точному определению ее критериев. Метод заключается в анализе общепринятых мнений (ἔνδοξα) о мудреце, чтобы вывести из них определение мудрости. «Wir müssen also die Merkmale der Weisheit aus dem entnehmen, was man über den Weisen vorauszusetzen pflegt».
· W.D. Ross (Aristotle's Metaphysics, 1924, Vol. I, P. 122): Фраза «исследуем эту науку» (ζητοῦμέν τινα τὴν ἐπιστήμην ταύτην) указывает, что предмет еще не определен строго. Процедура определения через «преобладающие предположения» (τὰ ὑποκείμενα) – характерный для Аристотеля диалектический метод, описанный в «Топике».
· А.Ф. Лосев (Аристотель, Сочинения, 1975, Т. 1, С. 74): «Аристотель… дает метод для определения мудрости. Этот метод заключается в том, чтобы взять общепринятые мнения о мудреце и вывести из них соответствующее определение».
Итак, прежде всего предполагается, что мудрый человек [3] знает, как можно больше обо всем, не обладая при этом знаниями об отдельном человеке.
[3] «ὑποκεῖται γὰρ πρῶτον μὲν εἰδέναι πάντα τὸν σοφὸν ὡς ἐνδέχεται, μὴ καθ» ἕκαστον ἔχοντα ἐπιστήμην…» (Arist. Met. 982a 8-9)
Комментарий:
· H. Bonitz (Aristotelische Metaphysik, 1890, Bd. II, S. 17): Первый признак мудреца – всеведение (εἰδέναι πάντα), но не в смысле эмпирического знания всех частностей, а в смысле обладания наиболее общими принципами, из которых могут быть выведены частные случаи. Мудрец знает «все», потому что знает причины, управляющие всем.
· Д.В. Бугай (Аристотель. Метафизика, 2022, С. 117): Уточнение «не обладая… знаниями об отдельном» (μὴ καθ’ ἕκαστον) критически важно. Мудрость (σοφία) противопоставляется здесь опыту (ἐμπειρία), который как раз имеет дело с единичным. Мудрец знает все через общее.
Далее, [4] мудрым считается тот, кто способен распознать то, что человеку трудно распознать: но это, конечно, не относится к чувственному восприятию, поскольку оно общее для всех, а значит, простое и не является мудростью.
[4] «…εἶτα τὸν δυνάμενον τὰ δυσχερῆ γιγνώσκειν μὴ ῥᾴδια ἀνθρώπῳ γνῶναι (τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ αἰσθητὸν ἅπασιν ἢ τοῖς πλείστοις, ὥστε ἁπλοῦν καὶ οὐ σοφία)…» (Arist. Met. 982a 9-12)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 18): Второй признак – способность постигать труднодоступное (τὰ δυσχερῆ). Чувственное восприятие исключается, так как оно легко и общедоступно. Мудрость начинается там, где кончается чувственное, и имеет дело с тем, что скрыто от глаз и требует усилий разума.
· W.D. Ross (Op. cit. P. 123): Аристотель не отрицает, что чувственное восприятие есть знание, но это знание низшего порядка, «простое» (ἁπλοῦν). Мудрость же есть знание сложных причин и связей, не данных непосредственно в восприятии.
Кроме того, человек считается тем мудрее в каждой науке, [5] чем точнее он исследует причины и чем лучше он способен их преподавать.
[5] «…ἔτι ἀκριβέστερον καὶ διδασκαλικὸν τῶν αἰτίων ἐν ἁπάσῃ τῇ ἐπιστήμῃ εἶναι τὸν σοφώτερον…» (Arist. Met. 982a 12-13)
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 18): Третий признак – точность (ἀκριβέστερον) и способность учить (διδασκαλικὸν). Оба свойства проистекают из знания причин (αἰτίαι). Тот, кто знает причины, может не только точно объяснить явление, но и передать это знание другому, то есть обучить его.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 75): «Способность обучения считается здесь… признаком самого высокого знания… Тот, кто знает только факты, но не знает их причин, не может быть учителем».
И в самих науках то, чего следует желать ради самого [6] знания, считается мудростью в более высокой степени, чем то, к чему стремятся только ради успеха; точно так же этот характер приписывается больше законодательной, чем служебной науке, ибо мудрый должен повелевать, [7] он не должен подчиняться другому, но менее мудрый должен подчиняться ему.
[7] «…καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴν μᾶλλον τῆς ὑπηρετικῆς, καὶ μὴ ἀλλότριον ἀλλ’ αὐτεξούσιον δεῖν εἶναι τὸν σοφόν…» (Arist. Met. 982a 16-18)[6] «…καὶ τῶν ἐπιστημῶν δὲ τὴν αὑτῆς ἕνεκεν καὶ τοῦ εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον εἶναι σοφίαν ἢ τὴν τῶν ἀποβαινόντων χάριν…» (Arist. Met. 982a 14-16) Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 124): Четвертый и пятый признаки основаны на цели знания. Знание, ценное само по себе (αὑτῆς ἕνεκεν), выше знания, ценного ради результата. Соответственно, наука архитектоническая, предписывающая цели (ἀρχιτεκτονική), выше науки служебной (ὑπηρετική). Это подразумевает самодостаточность (αὐτεξούσιον) мудреца.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 118): Аристотель проводит социально-политическую аналогию. Как в государстве правитель повелевает, а подданный подчиняется, так и в сфере знания мудрость имеет commanding position по отношению к прикладным, служебным знаниям.
Таких и подобных предположений о мудрости и мудрых делается множество. Из перечисленных свойств мудрых первое, всеведение, должно относиться особенно к тем, кто более всего владеет наукой общего, ибо они определенным образом знают и то особенное, что понимается под общим [8].
[8] «…ἐκ δὴ τούτων ἡ μὲν τὸ πάντα ἐπίστασθαι τῶν εἰρημένων ὑπάρχει μάλιστα τῷ τὴν καθόλου ἐπιστήμην ἐχόντῳ (ὁ γὰρ ἐκεῖνος πως καὶ τὰ κατὰ μέρος ἐπίσταται)…» (Arist. Met. 982a 21-23)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 20): Аристотель начинает синтезировать признаки. Всеведение мудреца объясняется через обладание универсальным знанием (ἡ καθόλου ἐπιστήμη). Тот, кто знает общее, в принципе знает и все подпадающие под него частные случаи, поскольку они суть модификации этого общего.
· H. Bonitz (Op. cit. S. 19): Слово «πως» («определенным образом», «как-то») важно. Теоретик знает частное не так, как эмпирик, не в его индивидуальной конкретности, а постольку, поскольку оно подчинено общему закону или причине.
То же самое, а именно общее, вероятно, является и самым трудным для распознавания, поскольку оно лежит дальше всего от чувственного восприятия [9].
[9] «…τὰ δὲ καθόλου βελτίω, ἀλλ’ ἐστὶν ἀφωρισμένα τῶν αἰσθήσεων…» (Arist. Met. 982a 25-26)
Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 125): Здесь Аристотель связывает второй признак (познание трудного) с первым. Наиболее общие принципы – самые трудные для познания именно потому, что они «отдалены от чувств» (ἀφωρισμένα τῶν αἰσθήσεων). Их нельзя увидеть или потрогать, они постигаются только умом.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 75): «Чувственное восприятие легко и доступно всем, но оно не есть мудрость. Мудрость имеет дело с умопостигаемыми сущностями, которые труднодоступны и требуют высшего напряжения интеллектуальных сил».
Кроме того, наиболее точными из наук являются те, которые имеют наибольшее отношение к высшим принципам: ведь более абстрактные науки всегда точнее, чем более конкретные, [10] как, например, арифметика в этом отношении превосходит геометрию.
[10] «…αἱ δ’ ἀκριβέστεραι τῶν ἁπλῶν εἰσι μᾶλλον…» (Arist. Met. 982a 25-28)
Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 20): Третий признак (точность) также выводится из знания общего. Науки о более простых (ἁπλᾶ) и абстрактных объектах (например, числа в арифметике) более точны (ἀκριβέστεραι), чем науки о сложных объектах (например, фигуры в геометрии, которые обладают не только количеством, но и положением, формой и т.д.).
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 119): Пример с арифметикой и геометрией – классический для Аристотеля. Он показывает, что точность науки зависит от степени абстракции ее предмета от материи. Арифметика абстрагируется от всякой материи, геометрия – от чувственной, но рассматривает предметы как имеющие протяженность.
Но наука, имеющая дело с причинами и принципами, легче поддается обучению, ибо обучать – значит давать основания для чего-либо. [11]
[11] «…ἡ δὲ τῶν αἰτίων ἐπιστήμη καὶ διδασκαλικωτάτη (οἱ γὰρ διδάσκοντες τὰ αἴτια λέγουσιν ἑκάστου)…» (Arist. Met. 981b 7-10, 982b 3-4)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 21): Способность учить (διδασκαλικωτάτη) прямо вытекает из знания причин. Учитель не просто сообщает факты, но отвечает на вопрос «почему?» (διὰ τί), указывая на причины и начала. Поэтому наука о первых причинах является в высшей степени учительной.
· W.D. Ross (Op. cit. P. 126): Это завершение синтеза третьего признака. Обучение (διδασκαλία) есть сообщение не просто что́ (τὸ ὅτι) нечто есть, но почему (τὸ διότι) оно есть, то есть указание его причины.
Кроме того, знание и понимание ради него самого особенно приличествуют той науке, которая имеет своим [12] объектом самое познаваемое: ведь тот, кто выбирает знание ради него самого, прежде всего выберет ту науку, которая является самой научной; это наука о самом познаваемом, а самое познаваемое – это самые высокие причины, ибо именно посредством них и из них познается все остальное, а не, наоборот, принципы из того, что под ними постигается [13].
[13] «…τὰ δὲ πρῶτα αἴτια γνωριμώτατα (διὰ γὰρ ταῦτα καὶ ἐκ τούτων τἆλλα γνωρίζεται, ἀλλ’ οὐ ταῦτα διὰ τῶν ὑποκειμένων).» (Arist. Met. 982b 2-4)[12] «…ἔτι δ’ ἡ μάλιστα ἐπιστήμη τοῦ μάλιστα ἐπιστατοῦ ἐστιν…» (Arist. Met. 982b 4) Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 21): Четвертый признак (знание ради себя) также находит свое основание. Самое познаваемое по природе (γνωριμώτατα φύσει) – это первые причины, ибо они являются основанием для познания всего остального. Поэтому стремление к знанию ради него самого естественным образом ведет к науке о первых причинах.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 76): «Познаваемость здесь понимается не в субъективном смысле… а в объективном: самые первые причины являются и самыми познаваемыми, потому что все остальное познается только через них и на их основе».
Наконец, самая властная из наук, более властная, чем служебная, – та, что признает цель всякого действия: это и есть [14] благо во всем, лучшее во всей природе. Согласно сказанному, различные характеристики исследуемого нами понятия сходятся в одной и той же науке: эта наука изучает конечные причины и принципы: ведь благо [15] и цель также относятся к принципам.
[15] «…καὶ γὰρ τἀγαθὸν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἕν τι τῶν αἰτίων ἐστίν.» (Arist. Met. 982b 10)[14] «…ἔτι δὲ ἡ ἀρχικωτάτη τῶν ἐπιστημῶν καὶ μᾶλλον ἀρχικὴ τῆς ὑπηρετικῆς ἡ τοῦ τέλους ἕνεκά ἐστι πράξεως· τοῦτο δ’ ἐστὶ τἀγαθὸν ἑκάστου, καὶ ἁπλῶς τὸ ἄριστον ἐν τῇ φύσει πάσῃ.» (Arist. Met. 982b 6-8) Комментарий:
· W.D. Ross (Op. cit. P. 127): Пятый признак (архитектонический характер) завершает синтез. Наивысшая и главенствующая (ἀρχικωτάτη) наука – это та, которая познает цель (τέλος) и благо (τἀγαθόν), ибо цель есть конечная причина, ради которой все существует и совершается. Таким образом, все признаки сходятся на науке о первых причинах, включающей конечную причину.
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 121): Итог всего рассуждения: мудрость (σοφία) есть наука о первых причинах и началах (ἡ τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτίων ἐπιστήμη). Это определение выведено диалектически, через анализ общепринятых представлений, и является стержнем всего последующего изложения «Метафизики».
Но то, что это не наука о делах, доказывают уже первые зачатки философствования. Ведь именно удивление побуждало людей к философствованию вначале, как это происходит и сейчас: сначала они удивлялись странным вещам, которые сначала поражали их, затем постепенно переходили к более значительным явлениям и делали их предметом вопросительного размышления, например, об изменениях луны, солнца, звезд, о происхождении Вселенной. Но вопрошание и удивление – это чувство не [16] знания.
[16] «…διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὸ πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν… ὁ δὲ ἀπορῶν καὶ θαυμάζων οἴεται ἀγνοεῖν…» (Arist. Met. 982b 12-18)
Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 24): Знаменитое рассуждение об удивлении (θαυμάζειν) как начале философии. Аристотель подчеркивает, что импульсом служит не практическая need, а теоретическое изумление перед непонятным, осознание собственного неведения (ἀγνοεῖν). Это доказывает самодостаточный характер искомой науки.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 77): «Это одно из самых знаменитых мест во всем сочинении Аристотеля… Философия рождается из сознания своего незнания и из желания преодолеть это незнание, а не из практических нужд».
По этой причине философ также любит легенды, ведь легенда состоит из чудесного. Но если человек философствует, чтобы спастись от невежества [17], то ясно, что он стремится к пониманию ради знания, а не ради какой-либо общей потребности. Об этом свидетельствует и история [18]: ведь только когда стало доступно все необходимое и полезное для увеличения удовольствия от жизни, люди стали искать научного понимания такого рода. Поэтому ясно, что мы не ищем его [19] для какого-либо другого использования, но подобно тому, как мы называем свободным человека, который существует ради себя самого, а не ради другого, так и эта наука является единственной свободной среди наук, ибо она одна существует ради себя самой.
[19] «…οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς οὐδεμιᾶς χρείας ἕνεκεν ζητοῦμεν τὴν ἐπιστήμην ταύτην.» (Arist. Met. 982b 24-25)[17] «…ὥστ’ εἴπερ διὰ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσοφήσαμεν, φανερὸν ὅτι διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐζητοῦμεν καὶ οὐ χρήσεώς τινος ἕνεκεν.» (Arist. Met. 982b 20-22) [18] «…καὶ σημεῖον δέ· τότε γὰρ πάρεστιν, ὅταν ἤδη πάντα τὰ περὶ τὸν βίον ἀφῇ τῶν ἀναγκαίων καὶ σχολάζωσιν.» (Arist. Met. 982b 22-24) Комментарий:
· H. Bonitz (Op. cit. S. 23): Аристотель приводит историческое свидетельство (σημεῖον): занятия философией становятся возможными только при появлении досуга (σχολή), когда удовлетворены насущные потребности. Это доказывает, что цель философии – не utility, а знание как таковое.
· W.D. Ross (Op. cit. P. 128): Сравнение со свободным человеком (ἐλεύθερος) подводит итог: как свободный гражданин живет не для другого (работая рабом или наемником), а для себя, так и первая философия есть свободная наука (ἐλευθέρα ἐπιστήμη), существующая ради самой себя.
Поэтому, поскольку [20] человеческая природа во многих отношениях несвободна, обладание ею вполне можно считать сверхчеловеческим, так что, говоря словами Симонида, только бог может обладать этой почетной прерогативой, тогда как человеку не подобает искать никакой другой науки, кроме человеческой.
[20] «…διὸ καὶ δικαίως αὕτη μόνῃ θείᾳ ἀνθρώπῳ τυγχάνει οὖσα· ὅσῳ δὲ θειότερον ὁ ἄνθρωπος, τοσούτῳ μᾶλλον οἷόν τε αὐτῷ ζῆν κατὰ τὸ κύριώτατον αὑτοῦ μέρος…» (Arist. Met. 982b 28-30)
Комментарий:
· Д.В. Бугай (Указ. соч. С. 123): Аристотель разрешает кажущееся противоречие: если эта наука божественна, то доступна ли она человеку? Ответ: человек причастен ей постольку, поскольку в нем есть божественное начало – разум (νοῦς). Реализация этого начала и есть жизнь согласно наивысшей добродетели.
· А.Ф. Лосев (Указ. соч. С. 78): «Занятие этой наукой… является… делом божественным, и человек приобщается к божеству именно благодаря разуму, который является в человеке чем-то божественным».
В самом деле, если бы [21] поэты были правы и, если бы божество имело завистливый характер, оно должно было бы быть самым завистливым в этом отношении, и все, кто превышает обычную меру мудрости, должны были бы быть несчастными. Но невозможно [22] чтобы божество завидовало: как говорится, поэты много выдумывают.
[22] «…ἀδύνατον γὰρ τὸ θεῖον φθονεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ παροιμιάζουσι, πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί.» (Arist. Met. 983a 4-5)[21] «…εἰ δ’ ἐστὶ φθονερὸν τὸ θεῖον, ἐνταῦθα μάλιστα κἀν τούτῳ εἰκὸς εἶναι, καὶ πάντας τοὺς περιττοὺς δυστυχεῖς εἶναι…» (Arist. Met. 983a 2-4) Комментарий:
· А. Швеглер (Schwegler, 1847, Bd. III, S. 27): Аристотель отвергает поэтический миф о «зависти богов» (φθόνος θεῶν). Для его философской теологии божество есть совершенный Ум, который не может испытывать негативных эмоций, связанных с недостатком. Зависть недостойна божественного совершенства.
· W.D. Ross (Op. cit. P. 129): Это рассуждение важно для обоснования возможности высшего знания для человека. Если бы Бог завидовал, любое человеческое превосходство, особенно в мудрости, было бы наказуемо. Отрицая зависть Бога, Аристотель открывает путь для бесстрашного философского исследования.
Да и никакая другая наука не может считаться более почетной, чем эта, ибо самое божественное – это и самое почетное. Такая наука, однако, может существовать только в двояком [23] смысле: божественной является та наука, которая более всего обладает Богом, а затем та (если таковая вообще существует), которая имеет божественное в качестве своего объекта. Наша наука включает в себя и то, и другое [24], ибо, с одной стороны, Богу принадлежат все принципы и фундаментальные причины, а с другой – такая наука принадлежит исключительно или, по крайней мере, преимущественно Богу.











