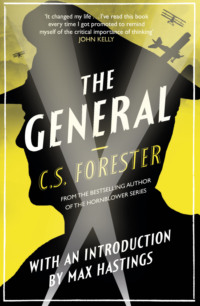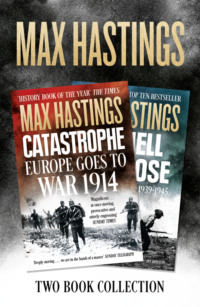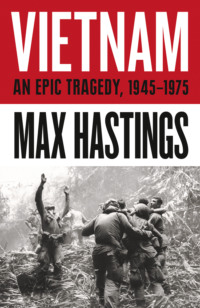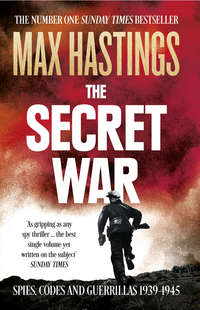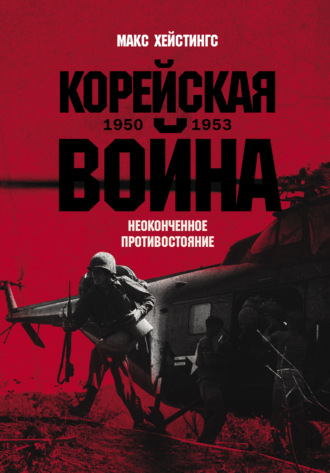
Полная версия
Корейская война 1950-1953: Неоконченное противостояние
Следующие семь лет Петербург и Токио боролись за власть и концессии в Сеуле. Исход этой борьбы решила сокрушительная победа японцев в Цусимском сражении – в нескольких милях от Пусана. В феврале 1904 года Япония ввела в Корею большую армию. В ноябре следующего года страна стала японским протекторатом. Британия, демонстрируя характерный для того периода колониальный цинизм, благословила захват Японией Кореи в обмен на поддержку своего владычества в Индии. Уайтхолл признал право Японии «принимать такие меры по управлению, контролю и защите Кореи [название страны тогда по-английски писалось через С – Corea], какие сочтет надлежащими и необходимыми», чтобы обеспечить свои «первостепенные политические, военные и экономические интересы».
Так независимость Кореи стала фикцией. В последующие годы в страну неиссякаемым потоком текли японские чиновники и иммигранты. В Корее вводилась японская система образования, прокладывались автомобильные и железные дороги и канализация. Но корейцы – ярые националисты – ни малейшей благодарности не испытывали. Неуклонно росло вооруженное сопротивление, за которым стоял необычный союз ученых-конфуцианцев, бандитских кланов, христиан и крестьян, страдавших от колониальных властей. В 1908 году антияпонская партизанская армия достигла пика своей численности – 70 000 человек. Но сразу после этого ее разбили безжалостно подавлявшие повстанческое движение японцы. Корея превратилась в вооруженный лагерь, где сплошь и рядом проводились массовые казни и повальные аресты и пресекалось любое несогласие. Двадцать второго августа 1910 года корейский император подписал отказ от всех своих прав на суверенную власть. Япония ввела собственные титулы для знати и учредила свое военное правительство. В течение следующих тридцати пяти лет, несмотря на упорное вооруженное сопротивление скрывавшихся в горах националистических отрядов, многие из которых были коммунистами, японцы удерживали свою деспотическую ненавистную корейцам власть над страной, которая в 30-х годах XX века стала важным плацдармом для экспансии на север, в Маньчжурию.
Однако, несмотря на то что Китай теперь погряз в междоусобной войне воевод-тупанов, а Россия была занята строительством новой жизни после революции, еще до Второй мировой стало ясно, что в силу своего географического положения на стыке трех великих держав Корея останется незатухающим очагом напряженности и соперничества. Американский историк Тайлер Деннетт прозорливо писал в 1945 году, за несколько месяцев до окончания войны на Дальнем Востоке:
Многие из факторов международной обстановки, которые привели к падению Кореи, либо сохранились неизменными за прошедшие полвека, либо, скорее всего, проявят себя вновь, как только на востоке восстановится мир. Японию с ее жаждой власти удастся приструнить, но не навсегда. Возможно, в следующем поколении Япония снова будет иметь большое влияние в Тихоокеанском регионе. Россию же полуостров, скорее всего, будет интересовать не меньше, чем сорок лет назад. И вполне вероятно, этот фактор окажется важнее, чем когда-либо прежде. Стоит ожидать, что и традиционная вовлеченность Китая в дела этого региона тоже сохранится[12].
И вот война резко заканчивается – и Японская империя идет с молотка. Корейцы, освободившись от японского владычества, стали ждать исполнения обещания, данного «тремя великими союзниками» в Каирской декларации 1943 года, что «в свое время» Корея станет свободной и независимой.
Решение высадить войска, чтобы тоже поучаствовать в оккупации Кореи, Америка приняла только под самый конец войны. Японская колония в сложных переговорах о зонах оккупации, которые вели участники «Большой тройки» в 1943–1945 годах, не фигурировала. Американцам всегда нравилась идея «опеки» над Кореей, как над Индокитаем и некоторыми другими колониальными владениями на Дальнем Востоке. Их привлекала перспектива обозначить некий период, в течение которого попечители в лице великих держав, в данном случае Китая, Штатов и СССР, будут «просвещать» зависимые народы и «готовить к самоуправлению», «защищая их от эксплуатации». У британцев и французов, не забывавших о собственных империях, эта идея отклика не находила. С дальнейшим ходом войны раздумья о будущем внутреннем устройстве Кореи отошли на второй план, оттесненные растущим беспокойством о внешних силах, которые будут это устройство определять. Еще в ноябре 1943 года один из подкомитетов Госдепартамента высказал опасения, что Советский Союз, вступив в войну на Дальнем Востоке, может воспользоваться возможностью втянуть Корею в свою сферу влияния:
Корея может показаться соблазнительно удобным случаем применить советскую концепцию должного обращения с колониальными народами, чтобы существенно увеличить экономические ресурсы советского Дальнего Востока, получить незамерзающие порты и занять господствующую стратегическую позицию по отношению к Китаю и Японии… ‹…› Советская оккупация Кореи создала бы совершенно новую стратегическую обстановку на Дальнем Востоке с возможными далеко идущими последствиями для Китая и Японии[13].
Как очень верно подметил американский историк Брюс Камингс, «“совершенно новую стратегическую обстановку на Дальнем Востоке” создал вовсе не интерес к Корее со стороны CCCP – он-то проявлял его уже не одно десятилетие, а заинтересованность Штатов»[14]. Однако к началу Потсдамской конференции в июле 1945 года предсказуемые трудности вторжения на «внутренние территории» Японии вызывали у вооруженных сил США немалую головную боль. Штаты считали японские войска, все еще дислоцирующиеся в Корее и Маньчжурии, достаточно крепким орешком для Красной армии и были только рады переложить эту задачу – и бремя неизбежных потерь – на русских. Во всяком случае, Пентагон стоял на позиции, что Корея не представляет долгосрочного стратегического интереса для Штатов.
Однако всего три недели спустя их взгляд на Корею кардинально изменился. Две атомные бомбы, взорванные в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа, вынуждали Японию сдаться. Советская Красная армия ломилась через Маньчжурию, встречая ожесточенное сопротивление Квантунской армии. Вот тогда Вашингтон и пересмотрел свои представления о том, насколько желательно и целесообразно будет отдать Советам изрядный кусок Кореи. Поздним вечером 10 августа 1945 года, через сутки с небольшим после бомбардировки Нагасаки, Координационный комитет Госдепартамента, Военного и Военно-морского министерств спешно вынес единодушное решение: Соединенные Штаты должны участвовать в оккупации Кореи. Два офицера, составлявших проекты указов комитета, вгляделись в мелкомасштабную настенную карту Дальнего Востока и заметили, что 38-я параллель делит страну почти пополам. К югу от этой черты располагалась столица, лучшие предприятия сельского хозяйства и легкой промышленности, а также больше половины населения. Некоторые члены комитета, в том числе Дин Раск, будущий госсекретарь США, высказали соображение: если русские это предложение отвергнут, Красная армия, пробравшись на юг через Маньчжурию, успеет захватить всю Корею, прежде чем передовые американские отряды высадятся в Инчхоне. В эти недели, на фоне первых нерешительных стычек начинавшейся холодной войны, внезапное предложение американцев о раздельной оккупации Кореи послужило пробным шаром для проверки планов СССР, касающихся Дальнего Востока.
К облегчению комитета, русские без всяких возражений согласились ограничить свое продвижение 38-й параллелью. Красная армия добралась до этого рубежа почти за месяц до того, как в Южной Корее должны были высадиться первые американцы, и там остановилась. Стоит отметить: если бы Москва отклонила американский план и оккупировала Корею целиком, вряд ли американцы смогли бы или стали бы форсировать решение дипломатического вопроса. Ни для той ни для другой стороны в этот период полуостров сам по себе интереса не представлял – он был важен только как способ прощупать взаимные намерения. Начиналась серьезная борьба за политический контроль над самим Китаем. По сравнению с определявшимися сейчас судьбами и границами великих стран Корея почти ничего не значила. Сталин вполне удовлетворился половиной. Ни разу за все пять последующих лет СССР не выказал желания поставить на кон власть и престиж Москвы в прямом состязании с американцами за распространение советского влияния к югу от 38-й параллели.
Так в конце августа 1945 года XXIV корпусу армии США, включая и ветеранов, у которых за плечами был не один месяц отчаянных боев на Тихом океане, и зеленое пополнение прямо из тренировочного лагеря, поступил расстроивший их приказ отправляться не на родину, по которой они истосковались, а в неведомую Корею. Как там вести себя, их не особенно инструктировали. Их командир, генерал Джон Ходж, получил в своем штабе в Окинаве лишь серию телефонограмм, которые только запутывали дело. Четырнадцатого августа генерал Стилуэлл сообщил ему, что оккупацию можно расценивать как «наполовину дружественную» – иными словами, противниками ему надлежит считать лишь незначительное меньшинство коллаборационистов. В конце месяца Верховный главнокомандующий, сам генерал Макартур, постановил, что к корейцам следует относиться как к «освобожденному народу». Координационный комитет Государственного департамента, Военного и Военно-морского министерств прислал из Вашингтона в Окинаву спешное распоряжение, предписывающее Ходжу «сформировать правительство в соответствии с политикой США». Отлично, понять бы еще, в чем состояла эта политика по отношению к Корее. Поскольку Госдепартамент не знал об этой стране почти ничего, кроме того, что ее националисты жаждут независимости и единства, сообщить Ходжу им было практически нечего. И генерал, как человек военный и прямой, попытался подойти к решению проблемы прямолинейно и по-деловому. Четвертого сентября он проинструктировал своих офицеров рассматривать Корею как «противника Соединенных Штатов», на которого распространяются условия капитуляции Японии. Восьмого сентября, когда американскому оккупационному конвою оставалось до Инчхона еще двадцать миль по Желтому морю, к нему подошло небольшое судно с тремя элегантно одетыми мужчинами на борту, которые отрекомендовались генералу представителями «корейского правительства». Ходж послал их куда подальше, как и всех остальных встреченных по прибытии корейцев, заявлявших о наличии у них мандата. Двадцать четвертый корпус намеревался взять страну под контроль и этот контроль удерживать. Армия США, разумеется, не желала связываться ни с какой из десятков враждующих местных политических группировок, которые в первые же дни после освобождения бросились возводить собственные силовые базы на обломках рухнувшей японской империи.
Передовой отряд из четырнадцати человек – первых прибывших в Сеул американцев – был очарован и ошеломлен тем, что обнаружил в городе. Повсюду конные повозки, лишь изредка протарахтит мимо какая-нибудь колымага на угле. В одной лавке они увидели трех европейцев и поспешили познакомиться, но те оказались турками из местной диаспоры, по-английски не знающими ни слова. Еще им встретились русские, бежавшие в Корею в 1920 году. Эти начали с довольно бестактного «Sprechen sie Deutsch?»[15] Человека, владеющего английским, американцы все же нашли – это был местный японец, до войны поживший в Штатах. Его жена, желавшая, как и все японское сообщество, подольститься к новым властям, уговорила их взять пирог и два фунта настоящего сливочного масла – ничего подобного они не ели уже много месяцев. Той ночью они спали на полу сеульского почтамта. Наутро их перевели в штаб, расположенный в отеле Banda[16][17].
За последующие дни крупные подразделения XXIV корпуса высадились в Инчхоне и разъехались на грузовиках и поездах по всей стране, чтобы занять позиции от Пусана до 38-й параллели. Поначалу генерала Ходжа и его штаб озадачила шумиха, которую незнакомые им корейцы устроили, соперничая за их политическое внимание, и насторожили беспорядки в провинциях, грозившие перерасти в серьезные бунты, если не принять меры. Дело осложнялось и тем, что никто из встреченных ими корейцев не говорил по-английски, а единственный представитель штаба, объясняющийся на корейском, коммандер Уильямс из ВМС США, владел им не в том объеме, чтобы вести переговоры.
Во всей этой неразберихе и неопределенности оккупационные силы сумели выявить только один стабилизирующий фактор, на который можно было опереться. Японцев. Без них Ходж со товарищи на этом начальном этапе не справились бы. Одна из первоочередных мер, принятых американским командующим, заключалась в том, чтобы до поры до времени оставить японских колониальных чиновников на прежних местах. Японский оставался основным языком общения. За поддержание закона и порядка по-прежнему отвечали в первую очередь японские военные и полиция. Макартур уже 11 сентября проинструктировал Ходжа немедленно отстранить японских чиновников от должностей, но даже когда их действительно начали снимать, многие сохраняли влияние еще не одну неделю как неофициальные советники американцев.
В результате через считаные дни после первой встречи освободителей и освобожденных патриотически настроенные корейцы с возмущением наблюдали откровенное сотрудничество японских и американских офицеров и уважение, с которым относились друг к другу бывшие враги, контрастировавшее с едва скрываемым презрением к корейцам. «Очень похоже, что с самого начала многим американцам японцы просто нравились больше корейцев, – пишет ведущий американский специалист по этому периоду. – Японцев считали сговорчивыми, дисциплинированными и послушными, в отличие от своенравных, необузданных, строптивых корейцев»[18]. Американцы не подозревали – или делали вид, будто не подозревают, – о том, что успели натворить японцы за три недели между официальной капитуляцией и прибытием XXIV корпуса: о разграблении складов, методичном подрыве экономики за счет печатания обесцененной национальной валюты, о продаже всех доступных недвижимых активов.
Следующему поколению, осведомленному о бесчинствах японцев во Второй мировой, может показаться невероятным, что американцы с такой готовностью солидаризировались со своими врагами, – не менее невероятным, чем поведение союзных разведслужб в Европе, привечавших и вербовавших бывших гестаповцев и военных преступников-нацистов. Однако удивляться не стоит. Самый глубокий отпечаток, который оставляет война у большинства ее переживших, – пошатнувшаяся вера в абсолютные нравственные ценности и чувство общности с теми, кто через нее прошел, даже если это враг. Бойцы всех армий, которым довелось уцелеть к окончанию войны, испытывали огромное облегчение и инстинктивное нежелание еще кого-то убивать, даже ради справедливого возмездия. Кроме того, у некоторых крупных фигур в американских вооруженных силах – особенно выделялся в этом отношении Паттон – стремительно росло подозрение, что эти четыре года они сражались не с тем врагом. Маккартизм тогда еще не зародился. Но восприятие коммунизма как зла было очень сильным и в сознании многих уже перевешивало отвращение к нацизму или японскому империализму. В Токио этот невероятный пример послевоенного примирения с побежденным врагом подавал сам Верховный главнокомандующий армии США. В Сеуле осенью 1945 года генералу Ходжу и его команде оказалось куда удобнее иметь дело с дисциплинированными и исполнительными коллегами-военными, пусть и недавними врагами, чем с грызущимися между собой анархистами-корейцами. У старших офицеров XXIV корпуса не было ни подготовки, ни опыта гражданской государственной службы – они были просто кадровыми военными, которым пришлось импровизировать на ходу. В свете последующих событий их ошибки и политическая бестолковость оставили нелестный для них след в истории. Но справедливости ради нужно отметить, что в этот период множество точно таких же ошибок совершали по всему миру их коллеги из союзных армий.
Пятнадцатого сентября политический советник Ходжа из Госдепартамента Мерелл Беннингхофф докладывал в Вашингтон:
Южную Корею можно назвать пороховой бочкой, которая готова взорваться от малейшей искры. Наблюдается сильное разочарование в том, что страна не получила независимость немедленно и японцев еще не выгнали. Однако, несмотря на острую ненависть корейцев к японцам, маловероятно, что они прибегнут к насилию, пока страна находится под надзором американских войск… ‹…› С точки зрения завоевания общественных симпатий желательно уволить японских чиновников, и в то же время осуществить это нелегко. Можно уволить их номинально, однако фактически работу они должны продолжать. У корейцев квалификации хватит разве что на низшие должности, будь то в правительстве или в жилищно-коммунальных службах и связи[19].
Давление на американцев в Корее, вынуждавшее их отказаться от помощи новообретенных японских союзников, стало непреодолимым. За четыре месяца 70 000 японских колониальных госслужащих и более 600 000 японских военных и гражданских отправили морем на родину. Многих вынудили покинуть дома, фабрики, оставить имущество. Но американо-корейские отношения уже были подорваны. Лейтенант ВМС США Феррис Миллер, который был одним из первых высадившихся в Корее американцев и впоследствии связал всю свою жизнь с этой страной, высказался так: «Наше непонимание настроений местного населения в отношении японцев и собственное слишком плотное взаимодействие с ними были в числе самых дорогих ошибок, которые мы когда-либо совершали там»[20].
В первые месяцы после высылки японцев их в качестве сотрудников американского военного правительства сменили те корейцы, которые в большинстве своем были давними коллаборационистами и вызывали презрение у соотечественников за прислуживание колониальным властям. Один занимавший в то время высокий пост американец характеризовал своих коллег так: «Вопиющее невежество в отношении Кореи и всего корейского, косность военной бюрократии и стремление немногих высококвалифицированных корейцев держаться от нее подальше: они не могли позволить себе ни ассоциироваться с таким непопулярным правительством, ни работать за предлагаемые им гроши»[21].
До принудительной высылки японцы всеми силами старались предостеречь американцев от всепроникающего влияния коммунизма в только еще формировавшихся политических группировках Южной Кореи. Предостережения упали на плодородную почву. Глядя на происходящее в Европе, оккупационное правительство охотно верило, что у истоков политических беспорядков стоят коммунисты, а их ячейки работают вовсю, стремясь перехватить управление страной. Беннингхофф докладывал: «Коммунисты ратуют сейчас за конфискацию японской собственности и могут стать угрозой закону и порядку. Вполне вероятно, что хорошо обученные агитаторы намеренно пытаются создать сумятицу и хаос на нашей территории, чтобы склонить корейцев отвергнуть Соединенные Штаты ради советской “свободы” и контроля»[22].
Главными проигравшими в разворачивающемся политическом состязании, которое должно было выявить, кто из корейцев сможет показать себя наиболее враждебным коммунизму и наиболее симпатизирующим идеалам Соединенных Штатов, стали члены так называемой Корейской Народной Республики – КНР. В 1945 году выражение «народная республика» еще не имело в Корее того уничижительного оттенка, который оно обретет довольно скоро. КНР представляла собой объединение националистов и значимых участников антияпонского сопротивления, которые до прибытия американцев попытались застолбить себе место у руля. Более половины из восьмидесяти семи руководителей, выбранных 6 сентября в Старшей женской школе Кёнги на собрании из нескольких сотен человек, при японцах сидели в застенках. Кроме того, по крайней мере половину из них можно было отнести к левым или коммунистам. Влиятельным изгнанникам, таким как Ли Сын Ман, Му Чжон[23], Ким Гу и Ким Ир Сен, места в правительстве отвели заочно, хотя мало кто из перечисленных впоследствии занял те должности, на которые их прочили. Важно отметить, что представители правых сил в руководстве КНР были в среднем лет на двадцать старше левых.
Неудивительно, что явившиеся на полуостров американцы ничего не знали о КНР. Хаотичную борьбу за заполнение политического вакуума в Корее еще больше запутывало прибытие из Чунцина самопровозглашенного Временного правительства Республики Корея – объединения, в которое входили в изгнании некоторые из выдвинутых на должности в руководстве КНР. В последующие недели скептицизм военного правительства по поводу КНР, энергично подогреваемый японцами, только нарастал. Здесь мы наблюдаем немалое сходство с отношением Запада к Хо Ши Мину и его коллегам во Вьетнаме в тот же период. Они не попытались внимательнее приглядеться к коммунистической идеологии левых; выяснить, в какой мере это ставленники Москвы, а в какой – просто неопределившиеся социалисты и националисты, не желающие терпеть традиционный помещичий уклад. Никто не учитывал и авторитет, который коммунисты заработали благодаря главенствующей роли в вооруженном сопротивлении японцам. Ходж и его правительство не видели никакой доблести в воинствующем национализме КНР – для американского военного правительства он был только помехой. Было бы наивно полагать, что такое объединение, как КНР, могло сразу сформировать гармоничное руководство для независимой Кореи: слишком много непримиримых фракций было в этом объединении. И все же именно они и были настоящими представителями мнения корейской националистической общественности, когда-либо собиравшейся под одной крышей, пусть и ненадолго. При наличии времени и поддержки они могли бы предложить Южной Корее наилучшие перспективы построения подлинной демократии.
Но резкий тон по отношению к американскому военному правительству со стороны КНР привел к тому, что объединение очень скоро стали воспринимать как угрозу и проблему. «Имеются данные [писал Беннингхофф 10 октября], что эта группа [КНР] получает поддержку и указания из Советского Союза (возможно, от корейцев, прежде живших в Сибири). В любом случае эта партия самая агрессивная из всех; в своей газете они сравнивают американские методы оккупации [с русскими] не в пользу Соединенных Штатов, насколько можно судить по манере изложения»[24].
Ходжу и его советникам гораздо больше импонировала другая группа, способная завоевать гораздо меньше политической поддержки, чем могла получить КНР: «…так называемая демократическая или консервативная группа, в составе которой насчитывается немало профессиональных руководителей и учителей, обучавшихся в Соединенных Штатах или в американских миссиях в Корее. В своих задачах и политике они демонстрируют стремление следовать принципам западной демократии и почти единодушно желают скорейшего возвращения доктора Ли Сын Мана и “временного правительства” из Чунцина»[25]. Не прошло и трех недель после высадки американцев в Корее, а официальные круги в Сеуле уже сосредоточились на создании нового правительства для Юге, построенного вокруг личности одного из одного из самых известных изгнанников страны.
Ли Сын Ман родился в 1875 году в семье обедневшего дворянина. Прежде чем начать изучать английский в колледже, он несколько раз проваливал экзамен на государственную службу. Затем был осужден за политическую деятельность и с 1899 по 1904 год находился в заключении. Освободившись, уехал в Соединенные Штаты и учился там несколько лет, по прошествии которых получил степень магистра искусств в Гарварде и Ph.D. в Принстоне. После краткого визита на родину в 1910 году Ли Сын Ман снова уехал в Америку. Там он оставался следующие тридцать пять лет, неустанно лоббируя американскую поддержку независимости Кореи и делая это на пожертвования корейских патриотов. Даже если кто-то из соотечественников и порицал его за себялюбие, бесконечную саморекламу, уклонение от вооруженной борьбы, в которой участвовали другие отважные националисты, не отдать должное его невероятной целеустремленности было невозможно. За все годы, проведенные в Соединенных Штатах, Ли Сын Ман ничего не усвоил и ничего не забыл. Железная воля служила ему одинаково безжалостным орудием и в борьбе с соперничающими фракциями соотечественников-изгнанников, и в борьбе с колониальной оккупацией. Он мог похвастаться даром предвидения в своих представлениях о мире. Еще в 1944 году, когда правительство США тешило себя разного рода иллюзиями по поводу послевоенных перспектив гармоничного сотрудничества со Сталиным, Ли Сын Ман говорил чиновникам в Вашингтоне: «Единственная возможность избежать в конечном счете конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом – повсеместно создавать демократические, некоммунистические элементы»[26].
Долгое отсутствие на родине дало Ли Сын Ману одно важное преимущество: многие его соперники ненавидели друг друга не меньше, чем японцев, но к Ли Сын Ману им практически не в чем было придраться. Он не запятнал себя коллаборационизмом. В то время как американцам нелегко было постичь корейскую культуру и общество, Ли Сын Ман был вполне понятной фигурой: он непринужденно вел светские беседы о демократии, со знанием дела рассуждал об Америке и американских институтах, а самое главное – свободно владел английским. Ли Сын Ман был язвительным, колючим, непримиримым. Но Ходжу и его советникам этот одержимый, не знающий жалости националист и антикоммунист казался вполне подходящей кандидатурой на роль отца-основателя новой Кореи. Двадцатого октября генерал присутствовал на официальной церемонии встречи американцев в Сеуле, организатором которой выступила партия, называвшаяся демократической (КДП), а в действительности бывшая крайне консервативной группировкой. На платформе перед собравшимися стояла одна только большая ширма из эбенового дерева, инкрустированная перламутром. В самый торжественный момент ширма была театрально отодвинута в сторону – и перед корейским народом предстал сухопарый, полный достоинства доктор Ли Сын Ман. Толпа взревела от восторга и взорвалась аплодисментами. Ли Сын Ман произнес пламенную антисоветскую речь и обескуражил даже своих покровителей, обвинив Америку в соучастии оккупации Севера Советами. Вот так триумфально началась карьера самого знаменитого – или одиозного – южнокорейского политика.