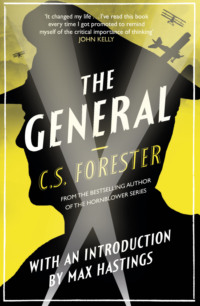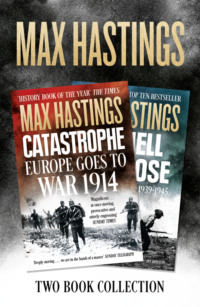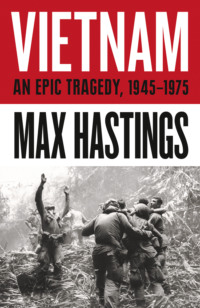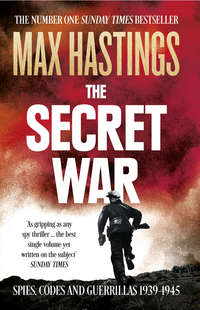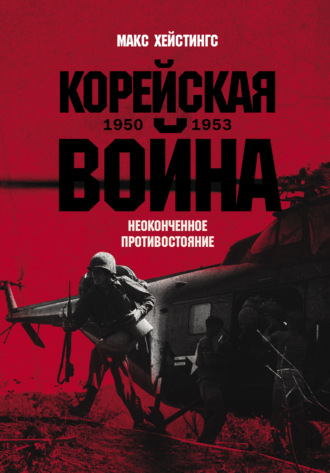
Полная версия
Корейская война 1950-1953: Неоконченное противостояние

Макс Хейстингс
Корейская война 1950–1953: Неоконченное противостояние
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Мария Десятова
Научный редактор: Александр Соловьев
Редактор: Роза Пискотина
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Воеводина, Татьяна Мёдингер
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрация на обложке: Bettmann / Getty Images
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Max Hastings, 1987
© Предисловие, Max Hastings, 2020
All rights reserved
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
⁂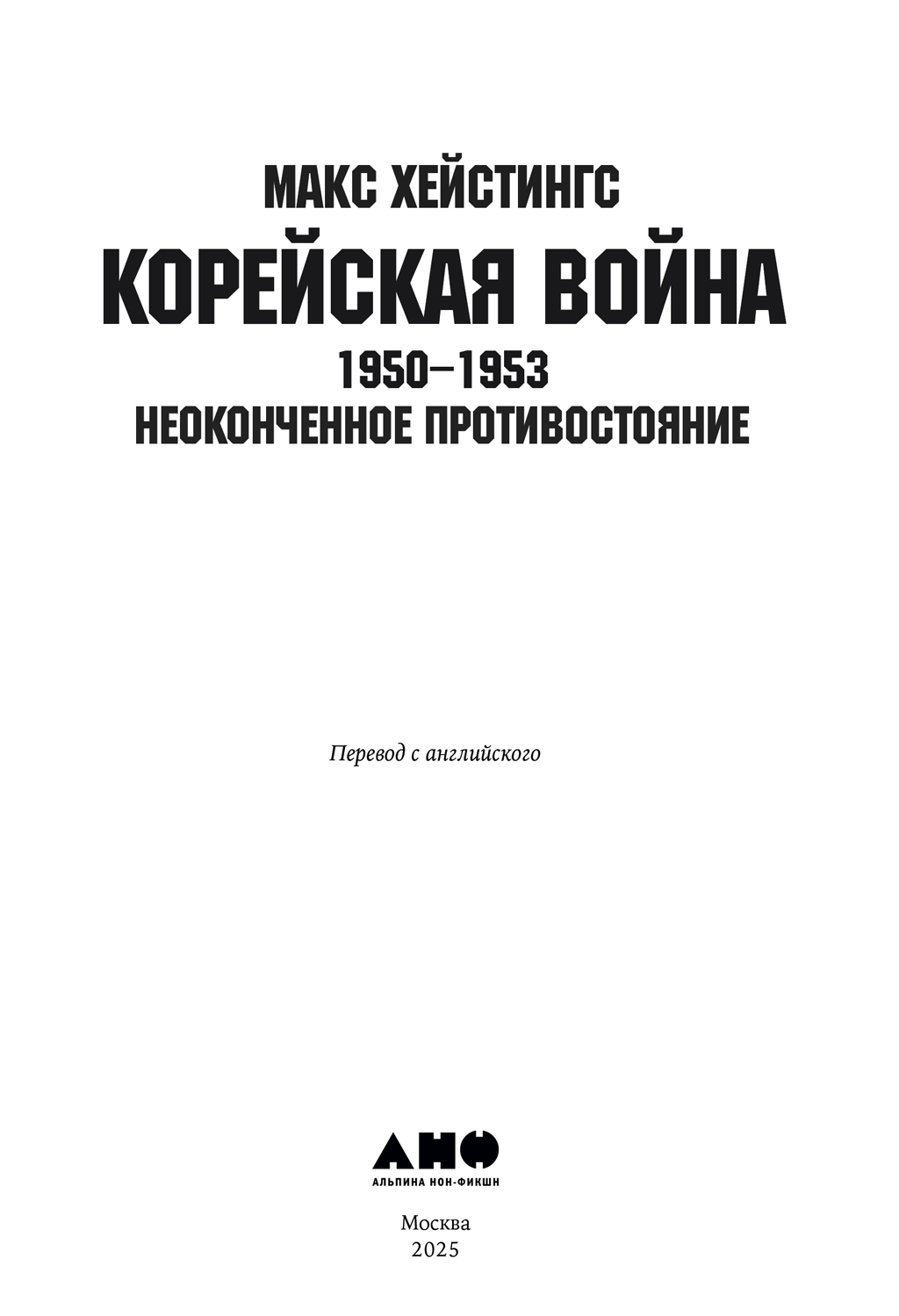
Посвящается Шарлотте
От научного редактора
Замечание о передаче китайских и корейских имен собственных
Передача корейских (и изредка) китайских имен собственных в российских изданиях до сих пор не стандартизирована: даже в академической среде встречаются разночтения (разные школы используют несколько отличные принципы передачи). Привычная по публицистическим и научно-популярным статьям манера передачи имени в три слога (Ким Ир Сен) сложилась исторически; она отторгает принятый в научной литературе более корректный способ передачи имен в два слова – фамилия (которая всегда идет первой, в отличие от англоязычной традиции начинать с имени) и имя: Ким Ирсен. Кроме того, эта традиция часто некорректно передает фонетику. Тем не менее здесь, следуя за автором, мы будем придерживаться устоявшегося способа передачи корейских имен в три слога (тем более что в авторской записи имена порой искажаются настолько, что восстановить оригинальное их звучание просто невозможно, особенно когда речь идет о простых людях): Ким Ир Сен, Хан Пхё Ук (и т. п.), тогда как китайские имена будут передаваться в два слова: Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай (и т. п.).
Карты
{1} Корея
{2} Вторжение в Южную Корею
{3} От Инчхона до Сеула
{4} Вмешательство Китая
{5} Отступление от Чосинского водохранилища
{6} Сражение на реке Имджинган

Предисловие
Корейская война 1950–1953 годов стала одним из переломных событий второй половины XX века. Соединенные Штаты оказались ближе, чем когда-либо за весь период холодной войны (если не считать Карибского кризиса 1962 года), к тому, чтобы нанести ядерный удар по Китаю. Встревоженные угрозой потерпеть поражение от китайских «добровольцев» и северокорейских войск, многие соратники президента Гарри Трумэна задавались вопросом, почему бы Штатам не использовать свое самое мощное оружие, чтобы сокрушить столь примитивного врага. Генерала Дугласа Макартура, главнокомандующего войсками ООН, пришлось в апреле 1951 года отправить в отставку: оторвавшийся в своей гордыне от реальности военачальник хотел отыграться за свои неудачи на поле боя, сбросив на Китай атомную бомбу.
Сегодня события тех дней вспоминаются в мире как малая война, но для самих обитателей полуострова это было невиданное кровопролитие. Силам ООН – представленным в действительности американцами и немногими их друзьями – противостояние обошлось в 142 000 погибших. Сами Штаты потеряли за три года 36 574 человека – для сравнения: во Вьетнаме за десять лет погибло 58 220. Британские войска понесли в три раза больше потерь, чем на Фолклендских островах. В Южной Корее погибло миллион мирных жителей и 217 000 военных. Северная Корея заявила о 600 000 погибших гражданских и 406 000 военных. В китайских войсках потери составили 600 000 человек. Надежностью вся эта статистика не отличается, но на более точные данные потомкам вряд ли приходится рассчитывать. Общее число погибших сопоставимо с цифрами самой смертоносной азиатской войны следующего десятилетия во Вьетнаме.
Коммунистическое вторжение в Южную Корею в июне 1950 года повлекло за собой череду сражений, каждое из которых стало легендой. Первые американские войска, представленные оперативной группой «Смит», были смяты и оттеснены бронированными частями коммунистов. После этого в Корею перебросили крупное западное подкрепление, включавшее наскоро сформированный британский контингент, за которым последовали символические силы из Франции, Бельгии и некоторых других стран – два австралийских и два канадских пехотных батальона. Затем была оборона Пусанского периметра; высадка в Инчхоне и злополучное наступление Макартура на Северную Корею; военное вмешательство Китая, вызвавшее сумбурное отступление западных сил; отчаянная битва у реки Имджинган в апреле 1951 года, в которой была разбита британская бригада, и последующие беспорядочные позиционные бои по всему полуострову. Каждое из перечисленных событий тянуло на полноценный эпос или роман ужасов, как и все пережитое западными военными в северокорейском плену. Сегодня ветеранов той войны откровенно раздражают и даже возмущают фильм и телесериал «МЭШ», якобы основанный на реалиях жизни, любви и смерти в американском военно-полевом госпитале. Эта комедия, пожалуй, единственное экранное окно, через которое современный зритель смотрит на Корею, воображая ее гораздо менее ледяной и суровой зимой, гораздо более знойной летом и неизменно более мрачной на протяжении всего года, чем ее помнят непосредственные участники событий.
Десятки интервью, взятых в 1984–1985 годах у ветеранов пяти разных национальностей, я вспоминаю как самые драгоценные эпизоды моей карьеры исследователя войны – настолько захватывающими были их истории. Многие из ветеранов сражались до того на полях Второй мировой. Они отмечали огромную разницу между участием в войне, в которой любой мужчина, женщина, ребенок на родине понимал, зачем приносить жертву во имя уничтожения нацизма, и участием в такой войне, когда начиная с 1950 года мало кто из граждан стран-участниц имел представление о том, почему их войска сражаются где-то на краю земли в какой-то дыре, о которой они почти ничего не слышали. Не было ни доблести, ни тем более славы в страданиях и лишениях солдат, большинство из которых составляли призывники.
На долгие годы после перемирия, подписанного в Пханмунджоме 27 июля 1953 года, все с облегчением забыли про Корею. Официальный мирный договор после перемирия подписан так и не был, поэтому вооруженные силы Севера и Юга по-прежнему противостоят друг другу на узкой линии прекращения огня, разделяющей полуостров, а непосредственно за фронтом южан дислоцируются войска США. Патовая ситуация вызывала негодование многих американцев, чья страна одержала триумфальную победу во Второй мировой и вызывала зависть у остального мира своими экономическими успехами. В итоге воспоминания о ней они старательно погребли под вымученной признательностью за то, что перестала литься кровь.
В 1953 году обе Кореи, как Северная, так и Южная, принадлежали к числу беднейших стран мира и в обеих действовали соперничающие, но одинаково тиранические режимы власти. Однако за прошедшие семьдесят лет судьба Юга переменилась кардинально. Южная Корея сейчас – это не только здоровая и жизнеспособная демократия, но и одно из самых экономически развитых азиатских государств. Север же так и застрял в 1950-х. С 2011 года этой номинально коммунистической страной руководит внук и династический преемник вождя времен корейской войны – Ким Ир Сена. Угнетенный народ ведет полуголодное существование. Периодические двусторонние переговоры с Югом начинаются с обоюдным энтузиазмом, но потом неизменно проваливаются. И пусть напряженность в последнее время не достигает такого накала, как в 2010 году, когда Северная Корея потопила в сеульских водах корвет южнокорейских ВМС[1] и несколько месяцев спустя обстреляла контролируемый Южной Кореей прибрежный остров, взаимное недоверие и страх едва ли стали намного меньше по сравнению с 1953 годом.
Много лет такое положение вещей, похоже, мало волновало остальной мир. Но в XXI веке Корейский полуостров приобрел новое пугающее значение, превратившись в плацдарм предполагаемой эпохальной схватки Соединенных Штатов и Северной Кореи. Обретя ядерное оружие, Ким Чен Ын бесцеремонно завладел вниманием всего мира. Власть в собственной стране ему обеспечивает только политика конфронтации – угроза уничтожить Южную Корею и, если на то пошло, США. Учитывая, что Китаю совершенно не нужна объединенная ориентированная на Запад Корея на ее южной границе по реке Ялуцзян (кор. – Амноккан), добиться устойчивого мира вряд ли представляется возможным. Для Ким Чен Ына обладание оружием массового уничтожения – единственный надежный способ удержаться у руля. Маловероятно, что международные санкции поспособствуют падению тоталитарного режима, пока ему делает поблажки Китай и пока он зарабатывает на продаже оружия недобросовестным государствам. Не похоже, чтобы попытки президента Дональда Трампа договориться с Ким Чен Ыном на дипломатических встречах в верхах, перемежаемые прямым запугиванием Пхеньяна, больше способствовали устранению угрозы со стороны этого недостойного, но чреватого немалыми катастрофами режима, чем усилия предыдущих президентов США. Суровая реальность все та же: если Ким Чен Ын откажется от ядерного вооружения, ему придется расстаться с властью, а следом, возможно, рухнет и режим. Гармоничным отношениям между двумя Кореями, не говоря уже о воссоединении, препятствуют успех и процветание Юга, резко контрастирующие с бедностью и упадком северной соседки.
Прискорбная актуальность темы придает истории корейской войны новое значение – что помогает объяснить, почему моя книга 1987 года пользуется популярностью более трех десятилетий спустя после ее первоначальной публикации. Тогда, много лет назад, меня как исследователя вооруженных конфликтов ее история привлекала потому, что корейская война в сравнении с вьетнамской и, разумеется, с двумя мировыми казалась непонятой и не вызывающей интереса у публики. Тогда у меня было несомненное преимущество: многие участники конфликта с обеих сторон Атлантики и в Южной Корее были еще живы и с ними можно было беседовать – включая таких выдающихся людей, как помощник госсекретаря США Дин Раск, посол Великобритании в Вашингтоне лорд Фрэнкс и посол Великобритании в ООН лорд Глэдвин. Северную Корею посетить я не мог, но благодаря связям в Пекинском институте стратегических исследований я одним из первых западных историков получил разрешение встретиться с китайскими ветеранами этой войны. И хотя их рассказы были насквозь пропитаны пропагандой, я все же получил ценное представление о том, какой виделась эта война мужчинам – и нескольким женщинам – с противоположной стороны.
Ни в Германии, ни в Японии нет музеев, прославляющих память о Второй мировой. В Пекине же я с очень неоднозначными чувствами смотрел в огромных залах Военного музея китайской революции на захваченные в Корее британские пулеметы «Брэн» и полковые нашивки, на американские пулеметы калибра.50 (12,7 мм), шлемы и обломки самолетов. В 1985 году там размещалась экспозиция, посвященная полностью вымышленной «бактериологической войне», которую якобы вела Америка против Северной Кореи в 1952 году. Утверждалось, что за тридцать два месяца участия Китая в конфликте потери армии США от рук китайских бойцов составили 1 090 000 человек. Это число, судя по всему, получилось за счет добавления нескольких тысяч к потерям, понесенным китайской армией, по утверждению вооруженных сил США. С точкой зрения Народно-освободительной армии Китая на ряд крупных сражений корейской войны меня познакомили офицеры Командно-штабного училища Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В Корее мне помогал в исследованиях тогдашний главнокомандующий войсками США в Сеуле генерал Пол Ливси, предоставивший мне все необходимое для работы и поделившийся собственными воспоминаниями о временах, когда он был командиром взвода. Бригадир Брайан Бердитт по истечении своего срока пребывания в должности британского военного атташе остался в Сеуле, чтобы поработать моим наставником и проводником на полях сражений, а также договориться об интервью с ветеранами корейской войны, включая командующего штабом армии Республики Корея в 1950 году.
К московским архивам того времени иностранным исследователям доступ тогда был закрыт. Некоторые западные ученые левого толка упорно продолжали возлагать ответственность за развязывание конфликта в июне 1950 года на Южную Корею – эту точку зрения продвигали и идеологи, написавшие сценарий для сериала, вышедшего в 1986 году на 4-м канале[2]. Я никогда не разделял их заблуждений, тем более что до июня 1950 года Штаты намеренно отказывались передавать Южной Корее танки и истребители, чтобы не допустить агрессивных шагов со стороны южнокорейского правительства, тогда как СССР все это Пхеньяну поставлял, подготавливая тем самым вторжение на Юг.
На мой собственный рассказ о событиях сильно повлияли оценки их современников, в частности сэра Дэвида Келли, который был послом Великобритании в Москве, когда началась эта война. Сегодня все новые свидетельства показывают, насколько точно оценивал положение Келли летом 1950 года. Открытые в Москве и Пекине досье показывают, что западные апологеты Ким Ир Сена не имеют никаких весомых аргументов: сейчас мы точно знаем, что северокорейский лидер начал войну с благословения Сталина.
Всплыли и другие подробности, подтверждающие справедливость моих тогдашних суждений об этой войне. Сталин полагал, что Западу не хватит воли сопротивляться и что его азиатские сателлиты добьются военной и политической победы без особого риска для Москвы или зависимого от нее государства. И когда акт неприкрытой агрессии вызвал решительный отпор со стороны Запада, Москву это потрясло и напугало. В последующие годы СССР отчаянно искал способ выйти из положения, не теряя лица. Основную поддержку Ким Ир Сен получил от Китая при некоторой помощи оставшихся неизвестными советских летчиков-истребителей[3]. Мао Цзэдуном двигало не столько расположение к Ким Ир Сену, сколько – главным образом – нежелание терпеть присутствие войск США на границе с Северной Кореей по реке Ялуцзян (Амноккан).
Эта книга не претендует на всеобъемлющий исторический охват. Скорее, как и другие мои работы, посвященные двум мировым войнам и вьетнамской, это портрет самого конфликта и его истоков, в котором основная роль отводится воспоминаниям и переживаниям непосредственных участников. Я, как британец, уделяю больше внимания вкладу своей страны, чем того заслуживает ее скромная лепта: от лица ООН в этой войне сражались преимущественно американцы. Но свидетельства британских военных способны поведать о боевых действиях в Корее ничуть не меньше, чем рассказы американских, канадских и австралийских товарищей по оружию, с которыми они вместе бились в этих бесплодных горах.
Корейская война сильно повлияла на отношение американцев к вьетнамской войне десятилетием позже – не в последнюю очередь потому, что подкрепила убеждение Вашингтона: в региональной войне необходимо достичь приемлемого компромисса, чтобы сдержать коммунистическую экспансию, и не обязательно при этом добиваться сокрушительной победы на поле боя. Многие кадровые офицеры участвовали в обоих военных конфликтах, в том числе такая колоритная знаменитость, как американский полковник Фред Лэдд, в потрясающих беседах с которым я провел не один час. Его воспоминания о службе в штабе Макартура в 1950-х – бесценный штрих в моей картине событий. Бригадный генерал Эд Симмонс, занимавший в 1970-х пост директора Музея корпуса морской пехоты США, был ветераном Чосинской кампании – и необычайно строгим критиком операций США в Корее. Во время моих интервью по обеим сторонам Атлантики меня поразило, как часто у ветеранов путаются воспоминания: то и дело они, оговариваясь, произносили «во Вьетнаме», имея в виду «в Корее». Впрочем, было разительное отличие, которое с горечью подчеркнул один выдающийся американский генерал: «Мы вошли в Корею с паршивой армией, а вышли с приличной. Во Вьетнам мы вошли с приличной армией, а вышли с никудышной».
Многие составляющие индокитайской трагедии дали о себе знать еще в Корее: незавидное политическое положение, в котором оказались западные демократические страны, поддерживая своим участием в войне местный непопулярный, жестокий автократический режим; трудности создания дееспособной армии в коррумпированном азиатском обществе; последствия недооценки тактического мастерства и презрения к смерти у идеологизированных сельских жителей. Несмотря на несомненные плюсы превосходства в воздухе и непосредственной авиационной поддержки, преимущества воздушных сил в войне с экономически неразвитым противником, не связанным с дорогами, с точки зрения стратегии оказались несущественными. Кроме того, американцам и их союзникам было трудно, сражаясь в гористой местности, задействовать в полную силу механизированные войска, сформированные для европейских кампаний.
Смерть Сталина в марте 1953 года устранила одно из главных препятствий к прекращению корейской войны. Кроме того, западным силам удалось стабилизировать фронт так, чтобы у Штатов появилась возможность воспользоваться своей огневой мощью с завоеванных позиций и отразить массированный удар коммунистических сил. В результате у некоторых американских военных и стратегов сложилось неоправданное самомнение: они забыли, что, в отличие от Кореи, где географические особенности позволяли оборонять короткую линию фронта, проходившую по самому узкому месту полуострова, в Южном Вьетнаме открытые границы тянутся на две тысячи миль. Коммунисты же много узнали в Корее о пределах терпения демократических стран и о том, как тяжело властям этих стран поддерживать у избирателей готовность участвовать в войнах в далеких землях, не имеющих к ним, на их взгляд, никакого отношения.
И все-таки в вопросе корейской войны я остаюсь ревизионистом. Многие – и те, кто сражался, и самые разные люди – десятилетиями считали ее напрасной, а цену в почти три миллиона жизней – заплаченной ни за что. Но мне кажется, что свобода и процветание сегодняшней Южной Кореи и пятидесяти двух миллионов населяющих ее человек оправдывают борьбу Запада за то, чтобы сохранять ее статус, – особенно когда мы видим, что двадцать шесть миллионов северокорейцев прозябают в нищете, на которую их обрекли коммунистические власти страны и их китайские защитники. При всей моей критике перегибов со стороны Макартура, необдуманного, неуклюжего поведения Запада в отношении Китая почти на всем протяжении XX века и недостатков президента Южной Кореи Ли Сын Мана, я по-прежнему убежден в том, что военное вмешательство Запада в июне 1950 года с целью противостоять неприкрытой агрессии было правильным шагом. Все американцы и британцы, приезжающие в Южную Корею после 1953 года, видят воочию, как благодарны до сих пор жители этой страны силам ООН, спасшим их тогда от необходимости покориться Ким Ир Сену и его преемникам.
Готовя переиздание книги, я устоял перед соблазном исправлять и перерабатывать текст 1987 года с учетом открывшихся в последнее время свидетельств, не последнее место среди которых занимает написанная генералом сэром Энтони Фарраром-Хокли официальная британская история корейской войны, вышедшая в 1990 году. Стоит только начать править и дополнять, и конца этому не будет. Лучше, на мой взгляд, убедиться, что моя версия событий не утратила достоверности в самом существенном – прежде всего, благодаря свидетельствам из первых рук – от множества непосредственных участников. Исправлять ошибки, которые неизбежно обнаруживаются в свете обновленной статистики и рассекреченных материалов за прошедшие три десятилетия, – задача нового поколения историков. Те, кто берется за эту тему сейчас, вольны рецензировать и оспаривать мои суждения, как сочтут нужным. Я же по-прежнему горжусь тем, что одним из первых в своем поколении писателей пролил свет на захватывающую историю корейской войны.
Макс ХейстингсЧилтон Фолиат,Западный Беркшир.Январь 2020 годаПролог
Оперативная группа «смит»
Ранним утром 5 июля 1950 года 403 растерянных, промокших, дезориентированных американца сидели в своих наспех вырытых окопах на трех корейских холмах и смотрели вниз – на автостраду, связывающую Сувон и Осан. Бойцы 1-го батальона 21-го пехотного полка пробыли в Корее всего четыре дня – после переброски на больших транспортниках С-54 с японской авиабазы Итадзуке на южный аэродром Пусана. С этого момента они рывками продвигались на север – на поезде и на грузовиках, ночуя в подсобках и в школах, в окружении толп беженцев, заполонивших дороги и станции. Некоторые из них заболели из-за местной воды. Лейтенант Фокс выбыл из строя еще до того, как американцы услышали первый выстрел противника: в поезде ему в глаз попала вылетевшая из топки зола. Всех без исключения ели поедом комары. Они узнали, что Корея воняет – в самом буквальном смысле – человеческим дерьмом, которым крестьяне удобряли рисовые поля. Они наблюдали за сердечными придорожными встречами своих офицеров и немногочисленных генералов, разбросанных по стране. Командовавший 24-й дивизией генерал Уильям Дин сказал командиру 1-го батальона 21-го полка подполковнику Чарльзу (Брэду) Смиту: «Простите, мне почти нечего вам сообщить».
Они знали, что 25 июня коммунистическая Северная Корея вторглась в антикоммунистическую Южную и с тех пор ломится на юг, никого не щадя и почти не встречая сопротивления со стороны разбитой армии Ли Сын Мана. Бойцам оперативной группы предстояло занять оборонительные позиции где-то на пути противника – как можно дальше к северу, однако после долгих лет службы в оккупационных войсках в Японии они даже помыслить не могли о настоящих сражениях, ранениях и возможной внезапной гибели. Батальон, как и остальные подразделения оккупационных войск в Японии, был катастрофически недоукомплектован и плохо вооружен. Роты А и D вместе со многими вспомогательными подразделениями все еще переправлялись из Японии в Пусан морем. Вечером 4 июля батальону было приказано занять отсечную позицию у дороги на Сувон, примерно в пятидесяти милях к югу от столицы, Сеула, уже занятого коммунистами. В гористой местности все дороги, пригодные для перемещения современной армии, можно пересчитать по пальцам, поэтому было очевидно, что продвигающийся на юг противник нацелится на Осан. Этому противнику и должен был дать отпор первый батальон 21-го полка – первое из подразделений армии США, доступное для немедленной переброски в Корею и введения в бой. «Они выглядели как отряд бойскаутов, – сказал полковник Джордж Мастерс, один из тех, кто видел батальон во время переброски на фронт. – Я разъяснил Брэду Смиту: “Против вас будут закаленные в боях солдаты”. Ответить ему на это было нечего»[4].
Как большинство солдат в большинстве войн, они продвигались к позициям в темноте, под мелким моросящим дождем. Часть южнокорейских водителей реквизированных грузовиков наотрез отказалась ехать дальше к полю боя, поэтому американцам пришлось сесть за руль самим. Батальон выгрузился позади холмов, на которых полковник Смит наскоро провел рекогносцировку, и взвод за взводом начал карабкаться вверх по каменистому, поросшему кустарником склону под приглушенные ругательства и бряцание оружия. Офицеры были в таком же замешательстве, как и рядовые, поскольку им сказали, что предстоит встреча с южнокорейским армейским подразделением, вместе с которым они должны закрепиться на позиции. В действительности на холме никого не оказалось. Ротные как могли рассредоточили бойцов и приказали окапываться. Американцы сразу же обнаружили, как тяжело выгрызать укрытия в непробиваемых корейских холмах. Несколько часов, неуклюже ворочаясь в своих плащ-палатках под дождем, они скреблись среди скал. Внизу на дороге связисты прокладывали телефонный кабель на тысячу метров в сторону тыла – к единственной батарее поддерживающих 105-миллиметровых гаубиц. Грузовики с боеприпасами громоздились у обочины: никто даже не заикнулся о том, чтобы тащить их в темноте на холм к позициям роты. Окопавшись, большинство американцев над дорогой на час-другой улеглись в облепившей тело насквозь промокшей одежде рядом с оружием и выкладкой и провалились в беспокойный сон.