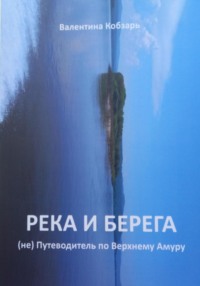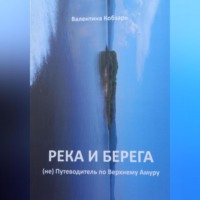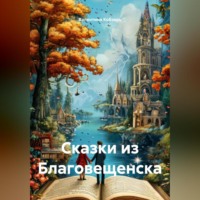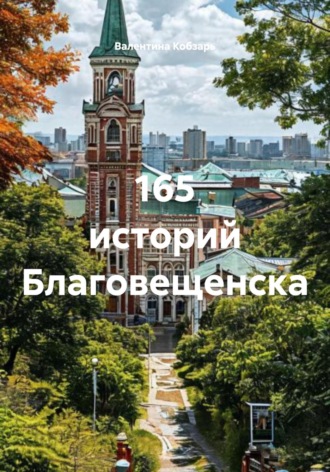
Полная версия
165 историй Благовещенска
В октябре 1909 года в городе работало 28 электромоторов общей мощностью 85 лошадиных сил. Новейшие двигатели были задействованы в мастерских, банях, типографиях, на водокачках. Одной из первых была оснащена мотором колбасная фабрика Ортнера. Пивоваренные заводы «Амур» и «Кобоско» поставили сразу по три мотора. На краскотёрочном заводе Н.Г. Шелудякова работал мотор в пять лошадиных сил! К слову, «промышленный» тариф, был значительно ниже, чем «обывательский»: 24 копейки за «кило-уатт».
На 1 апреля 1911 года в Благовещенске освещалось электричеством 652 квартиры, 25 городских зданий, 43 абонента получали энергию для электрических моторов; за абонентами числилось около 14 000 рублей недоимок.
Электромонтёры начала ХХ века были на передовой прогресса, а назывались они установщиками: «Артель установщиков электрического освещения принимает всевозможные электрические работы, обеспечивает дежурство»; «Получены лампы Танталя, дающие экономию в расходе 55 % энергии. Установка электроосвещения в домах, магазинах и т. д. в рассрочку платежа на целый год. Исполняет М.С. Кравчинский».
Услуги электромонтеров оценивались очень дорого. Вот пример. В феврале 1909 года в Общественном собрании устраивали бал в пользу Благовещенской общины сестёр милосердия. В числе прочих расходов такие: «За ужин музыкантов (целый оркестр) – 20 рублей, за электрические эффекты монтёру – 35 рублей».
Счётчики (их, как и другое электрическое оборудование, выписывали из Германии), которые устанавливали в домах абонентов, были собственностью электростанции. Конечно, потребители с недоверием относились к чужим агрегатам и по любому поводу жаловались. В том числе на то, что счётчики «вращаются не только от прохождения по ним тока, но и от сотрясения дома, производимого открыванием и закрыванием дверей. При такой их старательности придётся платить за каждый вход и выход из дома». Техники электростанции по каждой жалобе проверяли работу счётчиков и советовали хозяевам придерживать двери, а не хлопать ими.
С появлением собственной электростанции городское самоуправление первым делом решило заменить газовые уличные фонари на более экономичные и эффективные электрические. Для этого утвердили специальный тариф: 22 копейки за «кило-уатт» (уличное освещение оплачивали из городского бюджета). «Электрическая станция получила 30 дуговых фонарей из Гамбурга, – сообщает газета «Эхо» в феврале 1910 года. – Фонари были выписаны давно, но в августе 1909 года пароход «Ева», который их вёз, погиб в Средиземном море». Пришедшие с большим опозданием фонари установили не только в городе (на набережной Амура и улице Большой – на каждом квартале, на остальных – по фонарю на два квартала), но и в Забурхановской слободе. Правда, очень скоро за Бурхановкой снова стало по ночам темно – местные «ребята» все фонари перебили.
Первые уличные фонари выключались и включались вручную: рубильники стояли на каждом столбе, любой прохожий имел к ним доступ. Прекрасное развлечение для хулиганов: они зажигали и гасили фонари, когда вздумается. Горожане жаловались. Чтобы навести порядок, электростанция поставила рубильники особой системы, ими могли пользоваться только монтёры. Так безобразники разбили рубильники! Несколько раз электростанция меняла выключатели, пока шпана не успокоилась.
Это в центре города. А на окраинах – свои проблемы. Для всех фонарей в западном конце города установили общий выключатель – на одном из столбов. Распоряжаться зажиганием и тушением фонарей поручили полицейскому. Жители окрестностей возмущались, что подолгу не видят ни полицейского, ни уличного освещения.
Не стоит преувеличивать размах электрификации Благовещенска: в 1909-1910 годы электроэнергией для освещения домов пользовалось меньше 10% горожан – только богатые и очень зажиточные. Малоимущие обыватели по-прежнему жили при керосиновых лампах, свечах, а то и при лучинах.
Электрические хроники
По материалам газет «Амурский листок», «Торгово-промышленный листок объявлений», «Эхо» 1908-1912 гг.
«Вечером неизвестно кем из помещения народной читальни была отвернута и унесена электрическая лампочка».
«К рабочему электростанции, снимавшему разбитые фонари на Садовой улице, подошли несколько человек и спросили, почему не горит электричество, после произвели ряд выстрелов в фонарь. Перепуганный рабочий поспешил скрыться».
«Всеобщая компания электричества выслала 6000 саженей изолированного провода для замены голого провода в тех местах, где телеграфные провода пересекаются с электрическими».
«Монтёр Грачёв ранил в голову монтёра Холодова молотком. Причина – личные счёты».
«В Горбылёвке, против Никольской аптеки, оборвало провода уличного фонаря. Около 6 утра там проезжал на паре лошадей работник Косицына. Лошадь наступила на провод. Током она была сшиблена с ног и оглушена. Только через четверть часа пристяжка встала на ноги и смогла двигаться».
«В доме Романова обнаружен провод от лампы, присоединенный выше счётчика, поэтому счётчик не регистрирует ток, чем наносится ущерб городским интересам».
«За ноябрь (1910 год) выручка станции составила около 20 000 рублей: 63 000 кило-уатт отпущено для абонентов, 6500 – для уличных фонарей. Расход на дрова (электростанция работала на дровах) – 3 000 рублей».
«Благовещенский мещанин К.Ф. Хрипушин подал прошение в городскую управу об аренде участка в пять квадратных саженей на Чуринской площади, чтобы устроить световой экран объявлений, а именно, деревянную будку и полотняный экран. С помощью электрического фонаря световую рекламу планировал показывать с 10 до 11 часов вечера» (сентябрь 1915 года, первая световая реклама!).
Трамвай
С появлением городского электричества в Благовещенске задумались о «постройке трамвая». Списывались по этому вопросу с иностранными компаниями, давали объявления в столичных газетах, приглашая к сотрудничеству лиц, «могущих взять на себя оборудование и эксплуатацию трамвая».
Первый на Дальнем Востоке трамвай пустили в 1912 году во Владивостоке: пять вагонов, пять вёрст. Благовещенская дума планы составляла с размахом. По первому варианту (1908 год) рельсы должны были пройти по Большой и Амурской (от Артиллерийской до Невельской) и по Садовой до будущего железнодорожного вокзала (он только проектировался). Общая протяженность трамвайных линий – 19 вёрст, а на них – девять двухмоторных вагонов, в каждом по 30 мест «в салоне» и на открытой площадке – ещё 16.
В 1912 году управа подготовила план «замощения» улиц и новый проект устройства трамвайного движения. Рельсы должны были пройти по Большой улице – от Офицерской до Корсаковской; по Офицерской – от пристани на Амуре до Иркутской улицы; от Набережной Амура до вокзала – по Благовещенской улице (с переходом по Соборной на Садовую).
Дальнейшие расчёты показали, что трамвай, скорее всего, принесёт убытки, а не прибыль, и от идеи его «строительства» отказались.
Автотранспорт
Когда появился в Благовещенске первый автомобиль, пока установить не удалось, но точно можно сказать, что в 1911 году их было уже больше двадцати – частных и ведомственных. Только в распоряжении управления строительства средней части Амурской железной дороги было 15 авто. Управление водных путей Амурского бассейна «в целях более скорого сообщения как начальствующих лиц, так и служащих», установило автомобильные рейсы между управлением (угол Мастерской и Набережной) и министерским затоном на Зее. Реклама 1911 года предлагала покупать автомобили для городской езды, грузовики (грузоподъёмностью до 500 пудов), фургоны для товаров в акционерном обществе «Адлер» (Большая, угол Чигиринской, дом Родионовой).
Летом 1911 года представитель АО «Адлер» Маленков подал в городскую управу заявление о том, что он «совместно с несколькими лицами» с 1 июля устраивает грузопассажирское движение по улицам Благовещенска и просит сообщить, будут ли препятствия, а именно: «Будут ли какие-то сборы и какие суммы с каждого мотора? Не найдёт ли управа возможность разрешить монопольное право эксплуатации движения на 10 лет? Не пожелает ли управа принять участие в названном предприятии в виде бесплатного отвода городской земли под гаражи, ремонта улиц и так далее?»
Одновременно с Маленковым подал заявление А.М. Соколовский. Его проект организации городского автомобильного движения был на два пункта длиннее, чем у конкурентов. «1. На Большой, Зейской, Садовой, Амурской, Торговой устроить омнибусное движение – конное и автомобильное. Омнибусы и автомобили в зимнее время будут крытые, рессорные, типа лёгких вагонов. 2. Вначале, в виде опыта, по Большой будут ходить две пары конных омнибусов и одна пара автомобилей с империалом (империал в данном случае – второй этаж, на котором тоже размещались пассажиры). Если будет прибыльно, можно будет увеличить число омнибусов. 3. Будут заведены четырёх-, шести- и 12-местные автомобили для городского и загородного движения. 4. В учебное время, перед началом занятий и к их окончанию, к мужской и женской гимназиям будут подаваться автомобили специально для учащихся, по абонементным билетам. 5. Отходить от конечных пунктов автомобили будут через каждые пять минут».
А.М. Соколовский сам предложил вариант налогообложения. В первый год просил от налогов освободить, со второго года был согласен платить по 30, с пятого – по 50 рублей в год с каждого автомобиля. Плату за езду на городских маршрутах он определил такую: на автомобилях – 15 копеек (на империалах – 10 копеек), в конных омнибусах «за конец» – 5 копеек (всего предполагалось три «конца»: Загородная – Торговая, Торговая – Театральная, Театральная – Невельская). По абонементным билетам предполагалась скидка: учащимся 25 %, прочим – 20 %.
Следом за Маленковым и Соколовским о желании организовать автодвижение заявила местная биржевая артель.
В декабре 1911 года дума обсуждала вопрос «О разрешении грузового и пассажирского движения на улицах города». Городская управа высказалась за разрешение только пассажирского движения, полагая, что городские улицы не выдержат грузового транспорта. Дума с мнением управы не согласилась и, признав в принципе желательность автомобильного движения, как пассажирского, так и грузового, поручила управе «выработать кондиции на сдачу движения и назначить конкуренцию (конкурс) на него».
Пошло полгода. А.М. Соколовский, который выиграл «конкуренцию», готовился начать дело. Накануне открытия автодвижения по городским улицам по актуальному вопросу высказался невероятно активный общественник Г.И. Клитчоглу. Своё пространное письмо он разместил в газете «Эхо».
«Проект движения нуждается в некоторых исправления, которые спешу указать.
По Большой улице остановка предложена на Театральной, где скопления публики не бывает, и нет остановки на Буссевской, где в учебное время всегда будет много желающих воспользоваться услугами экипажа. По Иркутской улице нет остановки на углу Мастерской, у женской гимназии. Как на Буссевской, так и на Мастерской остановки будут неизбежны, поэтому не будет ли практичнее предусмотреть их заранее?
Плата от Загородной до Невельской 15 копеек. За всякое промежуточное расстояние плата такая же. Ввиду этого при малых расстояниях для малоимущего населения автомобиль станет недоступным. Да и имущие классы при малых расстояниях предпочтут извозчика, который довезёт за 20 копеек к самому подъезду.
Особенно неудобна плата за всю линию для учащихся, которым за 6-8 кварталов приходится платить по 7,5 копеек. Это доступно далеко не всякому. Было бы практичнее для предпринимателя и обывателя разбить линии Иркутскую и Большую по крайней мере на два участка: Загородная – Буссевская и Буссевская – Невельская, взимая за каждый участок по 8 копеек, а с учащихся – по 4 копейки. Плата 15 копеек неудобна для учащихся: при 50%-й скидке им всегда придётся иметь в запасе полукопейку – монету, имеющую очень небольшое хождение. Плата по Садовой тоже очень высока. Её можно ограничить до 12 копеек и тоже разбить на два участка.
В заключение скажу: автомобильное движение должно обслуживать главным образом малоимущее население, только тогда оно будет выгодно».
29 июня 1912 года можно считать местным автопраздником: в этот день открылось пробное пассажирское автомобильное движение (плата за проезд – 20 копеек с человека «в конец»; прислушались-таки к Клитчоглу, округлили цену, но отнюдь не уменьшили её).
Для начала запустили один автомобиль. Весь день он курсировал по Большой улице от сада при Общественном собрании (его называли ещё городским и общественным) до сада туристов. Остановок сделали шесть: общественный сад, Чуринская площадь, улица Благовещенская, улица Станичная, у Шадринского собора, у сада туристов. Движение началось в час дня, закончилось в 12 ночи.
Всего автомобиль сделал одиннадцать рейсов и перевёз около 700 человек! Газетный репортёр отмечал в отчёте: «Многие из проезжавших жалуются на сильную тряску, которая происходит из-за того, что рессоры автомобиля рассчитаны на груз в 400 пудов, публика же, находящаяся на автомобиле, весит значительно меньше».
На следующий день, в воскресенье, запустили несколько авто и работали они уже до двух ночи.
По традиции городскую сенсацию прокомментировал в стихах один из местных поэтов, подписавшийся «Родион Павлов». Своё творение он озаглавил «Автомобиль и извозчик».
По улицам плавно машина бежит
И шоффер ей правит умело,
В вагонах двух публики много сидит,
И слышится «Это вот дело!»
На лицах восторг! Умиленье в сердцах.
Теснят и толкают друг друга.
Лишь изредка вырвется дамское «Ах!»
От радости – не от испуга.
Один лишь извозчик уныло стоит,
О днях золотых вспоминая.
И злыми глазами на чудо глядит,
Проклятья ему посылая.
«Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертью машина грозила!
Недаром же верят все в нашей семье,
Что это нечистая сила».
…В июле 1912 года среди гласных городской думы появилось мнение, что «в осуществлении проекта (какое современное звучание!) автомобильного движения приходится сильно сомневаться». Оказалось, победивший соперников господин Соколовский почему-то не спешил с заключением договора с городским самоуправлением. Чтобы выяснить, в каком положении находится дело, городская управа по поручению думы обратилась 20 июля к Соколовскому с запросом, желает ли он заключить договор, и, если желает, каким образом он предполагает осуществить предприятие?
В августе того же года стало известно, что организуется Амурское автомобильное товарищество, которое планирует установить автомобильное движение в местах, где это окажется выгодным и не только в столице Приамурья. Начать свою деятельность организаторы товарищества хотели бы с Благовещенска, но не на выработанных думой условиях (к сожалению, неизвестно, какими они были). «Эти условия, – заявили организаторы товарищества, – неприемлемы для какого угодно предпринимателя».
Для начала члены товарищества хотели бы поставить в городе четыре автобуса и несколько легковых автомобилей (последние будут подаваться по заказам, то есть как такси – сегодня). Автомобили будут ходить по Большой улице, которая делится по длине на три участка: от Загородной до Торговой, от Торговой до Кузнечной, от Кузнечной до набережной Зеи. За проезд каждого участка плата устанавливается 10 копеек. Дети до пятилетнего возраста от платы освобождаются. Ученики платят по 7 копеек. Первые четыре автомобиля прибудут в Благовещенск к 1 сентября. Если дело пойдёт, число автомобилей будет увеличено. А ещё новое товарищество просило… убрать с улиц автомобили конкурентов. Если же их условия не примут, они «изберут для своей деятельности другой пункт области».
И тут объявился господин Соколовский, которому чуть не два месяца назад городская дума сдала в концессию автомобильное движение по улицам Благовещенска. Объявился своеобразно. Не объясняя своего молчания, не извиняясь за задержку с оформлением соглашения, он подал в управу заявление и просил внести изменения в выработанные ранее городом условия. Он предложил, во-первых, запретить движение обозов с грузом по Большой улице. Во-вторых, …обещал начать регулярное движение только с июня будущего года (!). До этого времени пусть перевозят пассажиров автомобили других предпринимателей, милостиво разрешал Соколовский, а когда поедут его машины, за каждый посторонний автомобиль, работающий с разрешения городского управления, город должен будет уплачивать ему, Соколовскому, по 50 рублей в сутки. Такой вот ультиматум.
Дума отреагировала очень быстро. В заседании 31 августа депутаты обсудили предложения А.М. Соколовского и разрешили ему открыть движение с 15 июля 1913 года; установили, что движение в холодное время года будет начинаться с половины восьмого утра, в тёплое – на час раньше, а заканчиваться в девять вечера (круглый год); согласились, чтобы 1 января, в Страстную субботу, в первый день Пасхи, в Сочельник 24 декабря и в первый день Рождества Христова движение автомобилей считалось необязательным. От предложения отвечать за движение чужих автомобилей ещё и платить за них Соколовскому дума отказалась, как и от запрета на грузоперевозки по Большой улице.
Ходатайство городских легковых извозчиков, которые наивно лелеяли надежду препятствовать прогрессу и подали в думу прошение «не разрешать автомобильного движения до весны 1913 года», было отклонено.
В том же заседании думы было решено удовлетворить ходатайство Амурского автомобильного товарищества и разрешить ему открыть движение в первых числах сентября. Товарищество будет платить в городскую казну «по три рубля с каждой силы двигателя».
Автомобильное товарищество в сентябре ничего не сделало потому, что автомобили добрались до Благовещенска только в начале октября. Двадцатого числа начались испытания. По Большой пустили два крытых авто на 12 и 15 мест, по Амурской – один, грузовой, «приспособленный на 18 пассажиров».
Открылось регулярное движение только 1 декабря 1912 года и, похоже, тут же закрылось, потому что 2 декабря на углу Большой и Буссевской сгорел гараж, а в нём… все автомобили Амурского автомобильного товарищества! Убытку на 25 800 рублей. «Причина пожара не выяснена, – писала газета. – Предполагают неосторожное обращение с огнём». Других сообщений об Амурском товариществе до конца года в печати больше не было…
Разнообразная, в основном сельскохозяйственная, техника (сеялки, веялки, молотилки, локомобили, моторы и т. д.) поступала в Амурскую область из Европейской России и из-за границы с момента начала массового переселения крестьян. В 1912 году обнаружился спрос на выписку автомобилей. Как сообщала газета «Эхо», «за последнее время в местную таможню является много лиц за справкой о сумме пошлины на автомобили, привозимые из-за границы. 12 сентября посетил таможню один из крупных коммерсантов, который выписывает из Харбина шесть автомобилей. Пошлина взимается в следующем размере: за четырех- и более местный автомобиль – 220 рублей, за менее местный –140 рублей».
Вероятно, первый на Дальнем Востоке и один из первых в России автомобиль был построен в Благовещенске, на заводе И.П. Чепурина. Было это в 1914 году. Задумал и реализовал проект К.И. Чепурин. Он окончил Иркутское промышленное училище и политехнический институт в Бельгии, работал главным инженером принадлежавшего отцу завода.
Производство автомобилей в России только-только начиналось, было, по сути, нулевым. Как пишет современный журнал «Русский техник», шасси и кузов в те времена жили как бы отдельной жизнью. Как правило, на раму со всеми агрегатами и подвеской навешивался кузов совершенно произвольной конструкции, поэтому изделие Чепурина трудно идентифицировать. Эксперты «Русского техника» полагают, что это была копия немецкого автомобиля Miele. Таких машин было выпущено не больше 140, они поставлялись и в Россию.
Амурская копия европейской легковушки по улицам Благовещенска двигалась, как тогда говорили, «с кинематографической скоростью».
За чудеса прогресса приходится платить. С появлением значительного количества авто жизнь горожан стала несколько опаснее. Если раньше они страдали от бешеной скачки всадников, неаккуратной езды разного рода гужевого транспорта и велосипедов, теперь к ним добавились автомобильные лихачи. В хронику газеты «Эхо» попало несколько дорожно-транспортных происшествий 1912 года.
«Около 4 часов вечера легковой извозчик – рабочий биржесодержателя Лазарева, привёз седоков к дому Грядасовой на углу Большой и Ремесленной улиц. Едва седоки успели сойти с экипажа, как из-за угла Ремесленной улицы вывернул на быстром ходу автомобиль начальника постройки средней части Амурской железной дороги инженера Трегубова и направился к месту остановки извозчика. Лошадь последнего испугалась, бросилась в противоположную от автомобиля сторону, перевернула на крутом повороте экипаж и понесла, волоча за собой запутавшегося в вожжах извозчика, который, не заметив вовремя автомобиля, не успел ничего предпринять, чтобы предотвратить несчастье. По словам очевидцев, выезжая из-за угла, автомобиль не подавал гудков и сделал это только тогда, когда находился саженях в десяти перед мордой лошади. К счастью извозчика, к нему вскоре подоспела помощь, и он высвободился, отделавшись только испугом и незначительными ушибами. Пролётка разбита вдребезги, уцелели от неё только колеса и задние шины. Владелец выезда, заявивший убытка 400 рублей, обращался к господину Трегубову с просьбой о возмещении убытка, но получил отказ и намерен обратиться в суд».
«5 августа приблизительно около двух часов дня по Зейской улице два автомобиля устроили состязание. Развивая значительную скорость и не давая обычных сигналов, они неслись от Зеи по направлению к центру города. Около Ремесленной улицы один из автомобилей, оставив своего соперника в двух саженях позади, видимо, желая показать своё превосходство, начал лавировать из стороны в сторону, занимая таким образом всё уличное пространство. Само собой разумеется, все проезжающие и проходящие должны были очищать уличное пространство, спасаясь за канавами. В одном автомобиле сидел шоффер. Позади него стоял какой-то человек, наклонявшийся к шофферу и, вероятно, приказывавший развивать скорость. В другом автомобиле был лишь шоффер. Автомобили эти, говорят, принадлежат управлению Амурской железной дороги».
«Вечером 6 сентября мчавшийся по Большой автомобиль на углу Корсаковской наскочил на выехавшего из-за угла корейца. Кореец, видя неизбежность столкновения, успел соскочить с телеги, телега же оказалась разбитой. Установить, чей это был автомобиль, не удалось».
«22 декабря около трёх часов дня автомобиль, кажется, начальника работ по постройке железной дороги, задел переходившего против реального училища мальчика и порвал ему шубу. Мальчик, по-видимому, не ушиблен, так как убежал сам. Виновником случая является несомненно мальчик, но раз такие случаи возможны, не мешало бы шофферам ездить с большей осторожностью, особенно в наиболее людных местах».
«Крестьянин Амурской губернии Рябицкий заявил, что на него наскочил автомобиль, разбил кошевку, стоящую 30 рублей, зашиб лошадь, стоящую 300 рублей».
Правила дорожного движения появились в Благовещенске в ноябре 1912 года: дума утвердила «Обязательное постановление о порядке езды по городу на велосипедах и других автоматических экипажах» (в России первые такие правила были приняты в 1896 году). Постановление регламентировало возраст (езда на велосипедах разрешалась с 12, управление автомобилем – с 18 лет), скорость (езда на автомобиле по городу не должна превышать 15 вёрст в час), «озвучку» (велосипеды должны быть снабжены звонками, автомобили – рожками). Посчитали, что на первое время достаточно.
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Всеобщее начальное – Алексеевская женская гимназия – Вторая женская гимназия – Мужская гимназия – Реальное училище – Ремесленное училище – Городски начальные училища – Церковно-приходские школы – Благотворители – Стипендии – Школьные экскурсии – Хроника школьных экскурсий – Народные учителя – Курсы для взрослых – Библиотеки
В ноябре 1907 года третья Государственная дума предложила для рассмотрения законопроект «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи». В нём, в частности, говорилось, что «всем детям обоего пола по достижении школьного возраста должна быть предоставлена возможность пройти полный курс обучения в правильно организованной школе». Согласно проекту, содержать эти учебные заведения должно было местное самоуправление; продолжительность обучения в начальной школе – 4 года, число детей на одного учителя – 50, район, который должна обслуживать одна школа, – местность с радиусом в три версты. Пять последующих лет законопроект обсуждался, дорабатывался, заслушивался, в итоге так и не был принят, но… самоуправление Благовещенска решило ввести в городе всеобщее начальное образование!
Всеобщее начальное
В 1908 году Амурская область была лидером Российской империи в области народного просвещения, потому что на каждую тысячу жителей приходилось 84,4 учащихся. В Москве этот показатель составлял 81,0, в Петербурге (столичный город) – 77,1 и так далее. Сенсационный для нас факт был опубликован в статистическом ежегоднике «Россия в цифрах» за 1909 год.