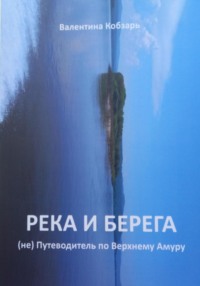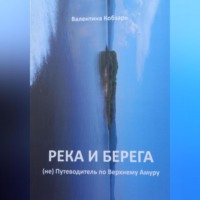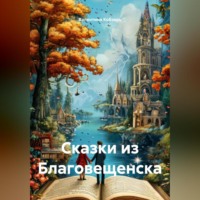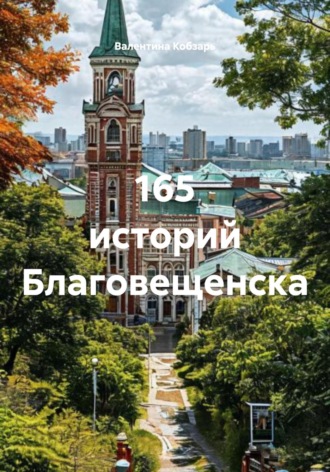
Полная версия
165 историй Благовещенска
Обычно особенно бурной городская жизнь была по осени, когда заканчивался сезон добычи золота, приисковые рабочие получали расчёт и «отдыхали» в Благовещенске в ожидании пароходов. Пёстрая и денежная публика тратилась в лавках и магазинах, широко гуляла в ресторанах, трактирах, буфетах, распивочных и «весёлых» домах. «Капризная судьба выбирает двух-трёх счастливчиков (из приисковых) и дарит им богатства, которые, по прибытии владельца в Благовещенск, в большинстве случаев самым бесшабашным образом прожигаются, причём, происходят сцены, не лишенные комизма. Например, покажется такому гуляке, что ему неприлично ходить по грязи, и он скупает ситец и стелет его по земле для своего прохода, или, например, вместо водки начинает пить одеколон, считая это почетнее», – вспоминал архитектор и путешественник А.И. Середин-Сабатин, побывавший в Благовещенске в конце XIX века.
Да, временами жизнь в Благовещенске была отчаянно бурной. Но только разгульным весельем она не исчерпывалась. Для примера – отрывок из дневника казака Д.Г. Пешкова о том, как степенно и душевно провожали его из Благовещенска в Петербург 7 ноября 1889 года. В 6 часов утра, отслужив молебен в Никольской церкви, Дмитрий Николаевич отправился к настоятелю церкви протоиерею Александру (Сизому) за благословением, а от него к своему командиру полковнику Г.В. Винникову проститься. Прощание было самым тёплым и искренним. «День был ясный, дул небольшой ветер при температуре градусов в 20, – записал в своем дневнике Дмитрий Николаевич. – Ровно в 12 час. и 20 мин. пополудни, перекрестившись, я сел на коня и тронулся в путь в сопровождении до городской черты в экипажах супругов Аргуновых, г-ж Д.Л. Кристензен, А.И. и М.И. Львовых и японского доктора Ино с переводчиком; затем верхами: китайца Василия Васильевича, товарищей А.С. Добротворского, Н.Л. Караулова, А.А. Зарудного, И.Н. Зыкова, А.Д. Ожигова, И.Н. Золотовского, Б.Ф. Кузьмицкого, А.Б. Карпова. Впереди выехали «квартиргерами» товарищи офицеры: В.Н. Лютиков и Б.А. Соколов с целью приготовить в станице Игнатьевской ночлег. Подъезжая к станице, кавалькаду нагнал Н.К. Кононович. По приезде в Игнатьево, после закуски все отправились на вечеринку к казаку Епифанцеву, выдававшему в этот день свою дочь замуж. Пробыв часа полтора на вечеринке, некоторые вернулись в Благовещенск, а некоторые остались ночевать. Проснувшись очень рано и осмотрев коня, выехал в 7 час. утра из станицы Игнатьевой».
По этому эпизоду можно представить, что жизнь «коренных» благовещенцев была относительно спокойной, вполне размеренной, в окружении близких и знакомых, проходила она в трудах и заботах и, как правило, без диких выходок, которыми отличались «пришлые».
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Сухопутный маршрут – По Амуру – В Приамурье – «Целинники»
Почти сто семьдесят лет назад правительство Российской империи организовало переселение крестьян в Приамурье. Наши предки решили стать участниками этого грандиозного проекта. Благовещенск был одним из опорных (в первые годы – основным) пунктов переселенческого дела в Приамурье. Переселенцы составляли значительную, хотя и «транзитную», часть населения города.
«Переселенцы, отправляющиеся на Амур, имеют очень смутные понятия об этом далёком крае. Иные из них идут по слухам, надеясь найти на Амуре рай и жить без забот на вольной земле. Другие идут по письмам своих родных и односельчан, доверяясь обещаниям, будто здесь всё достаётся без труда и хлопот. На деле никаким обещаниям и слухам верить нельзя». Это цитата из «Справочной книжки Амурской области для переселенцев» за 1899 год. Составил её чиновник особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе по переселенческим делам А.А. Тарновский. В ней он пишет: «Нелегко добраться до Амура, а ещё труднее здесь устроиться. Жизнь дорогая, хозяйство ведётся не так, как в России, обработка земли тяжёлая, климат другой, дороги плохие, селения редки, храмов Божиих мало…» Но, надеясь на удачу, на восток, за землей и лучшей долей тянулись жители Астраханской, Полтавской, Таврической, Самарской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Енисейской и других губерний России.
Первыми отправлялись ходоки. Их посылали отдельные семьи или целые сёла. Ходоки были настоящими разведчиками: осматривали новые земли, выбирали участки, оформляли документы, писали письма-«отчёты» или возвращались на запад, чтобы лично рассказать об увиденном тем, кто их посылал в дальнюю даль. Уже после этого покидали родные места собственно переселенцы. Их считали – семьями: приехало 15 семей – 180 душ, прибыло 30 семей – 320 душ.
Дорога в Приамурье – это 8 000-10 000 км. Переселенцы ехали в повозках, где была возможность – по воде, много шли пешком. По мере строительства Транссибирской железнодорожной магистрали их стали перевозить в поездах.
До 1910 года «железка» заканчивалась в Сретенске: там и сейчас рельсы упираются в скалу (Амурскую железную дорогу от станции Куэнга в Забайкалье до Хабаровска полностью ввели в эксплуатацию в 1916 году). От Сретенска до Благовещенска по Шилке и Амуру переселенцы добирались на плотах, казенных или частных пароходах и баржах. Некоторые везли через всю страну лодки и сплавлялись на них. Вот, например, что писала газета «Торгово-промышленный листок объявлений» в июле 1909 года: «На берегу Амура расположились переселенцы из Бессарабии. По Амуру они шли на лодках, которые привезли по железной дороге, заплатив за них, как за телеги».
Выгоднее всего было сплавляться на плотах: не надо платить за проезд, места хватает людям, животным, телегам, в Благовещенске брёвна можно продать или уже на месте построить из них жильё.
Цены за проезд на частных пароходах не были постоянными и зависели от «аппетитов» владельцев. В 1909 году газета «Эхо» писала: «Перевозка переселенцев в этом году будет производиться на пароходах наследников В.М. Лукина. Плата от Сретенска до Благовещенска с каждого взрослого 2 р. 50 к. (в прошлом году Амурское общество пароходства и торговли брало по 3 р. 50 к.), с малолетнего – 1 р. 25 к. (в прошлом году 1 р. 75 к.), с лошади и рогатого скота – 4 р. (в прошлом году 7 р.), телята и жеребята провозятся бесплатно (в прошлом году – по 3 р. 5 к.), груз – 15 к. с пуда (в прошлом году 20 к.), телега – 1 р. 75 к. (в прошлом году – 3 р. 50 к.).
Плыть по реке легче, чем идти по суше, но достаточно опасно: пароходы налетали на камни и тонули, случалось, горели, но чаще они застревали на мелях или налетали на камни и «сидели». Иногда – с музыкой.
Летом 1890 года по пути на Сахалин на пароходе «Ермак» прошел по Амуру А.П. Чехов. У станицы Покровской на Верхнем Амуре пароход, налетев на камень, получил пробоину и остановился для починки. Чехов написал об этом родным: «К станице подходит встречный пароход «Вестник» с массою публики. «Вестнику» тоже нельзя идти дальше, и оба парохода сидят сиднем. На «Вестнике» военный оркестр. В результате целое торжество. Вчера весь день у нас на палубе играла музыка, развлекавшая капитана и матросов и, стало быть, мешавшая починять пароход. Женская половина пассажирства совсем повеселела: музыка, офицеры, моряки… ах! Вечером гуляли по станице, где играла по найму казаков всё та же музыка».
Не всем так везло – «Ермак» просидел на мели только сутки, а, бывало, путешественники неделями не могли двинуться дальше: провизия кончается, деньги и время тратятся напрасно, а на новом месте надо успеть устроиться до холодов. Иногда пассажиры бунтовали и даже дрались с командой, но смирялись, потому что другой возможности добраться до новых земель не было.
Множество опасностей подстерегало переселенцев в трудном далёком пути. А в Благовещенске их поджидали разного рода мошенники и проходимцы. Особенно отличались перекупщики коней. «Берут за лошадь втридорога, а сбывают никуда не годящую дрянь, – писал корреспондент газеты «Торгово-промышленный листок объявлений». – Тут вы встретите и слепую, и хромую, а то и совершенно безногую, напоённую водой, которая выглядит очень бойкой и кажется молодой. Переселенец, платя хорошие деньги, бывает наделён никуда не годной клячей».
Случалось и хуже. «Возле Анновки шестью неизвестными ограблено 79 переселенцев. Двое бандитов стреляли вверх, остальные обирали. Забрали 1500 рублей, двух лошадей, разное имущество», – сообщалось в криминальной хронике газеты «Эхо». Почему переселенцы не сопротивлялись? Может быть, от неожиданности, может быть, на всём пути до Амура такого с ними не случалось? К чести местных сыщиков, через несколько дней подозреваемых в ограблении переселенцев, с неопровержимыми уликами, арестовали на постоялом дворе Мостового, за Амуром, в Сахаляне.
Добрых людей всегда больше, чем бандитов, и амурчане, которые обосновались на новых землях раньше, помогали новосёлам самыми разными способами. В 1898 году в Благовещенске было организовано Общество вспомоществования нуждающимся переселенцам, но и до этого частные лица по своей инициативе делились с прибывающими продовольствием и транспортом, помогали в строительстве жилья, покупке скота, при болезнях, наводнениях, пожарах и т.д. Когда в 1885 году случился на Амуре недород, купец первой гильдии И.Ф. Голдобин пожертвовал для бесплатной раздачи нуждающимся переселенцам 1000 пудов муки. В июле 1909 года из-за мелководья на Зее застряло несколько барж с переселенцами. Моторный катер управления водных путей доставил им 80 пудов белого хлеба, который испекли в «Киевской булочной» Благовещенска. Хлеб доставляли несколько раз, пока переселенцы не добрались до места назначения. Подобных примеров помощи «новым амурчанам» было немало.
Благовещенск был перевалочным пунктом: сюда переселенцы прибывали по Амуру, здесь получали документы, пособия, другую помощь, отсюда следовали на заранее определенные участки. Фёдор Чудаков в 1910 году напечатал в газете «Эхо» прочувствованное стихотворение, посвящённое переселенцам, «На берегу».
Сыны чарующей Украйны,
Страны, где воздух так здоров,
Где все толсты необычайно,
Где кормят крышами коров,
Где мёд и брага – в каждой хате,
Где степи вольные вокруг,
Где держат куриц на канате,
Чтоб не топтали панский луг, –
Сыны Украйны незабвенной,
Скажите, други, откровенно,
Какой вас клад сюда влечёт
Из года в год, из года в год?
Простись, хохол, с янтарной вишней,
И от далекого пути
Ты на годов десяток лишний
Свой век печальный сократи.
Конечно, плохо, если с лапоть
Объёмом вся твоя земля,
Но ведь и здесь ты будешь капать
Кровавым потом на поля.
Конечно, нету здесь урядниц,
Что девок розгами секут,
И также не с мужичьих з–ц
Мирскую подать здесь берут.
Но все ж о землях чигиринских
С отрадой будешь вспоминать,
Когда чиновников Огинских
Тебе придётся повидать.
Во многих источниках можно прочитать о том, что на восток переселялись бедные люди. Это не так. Нужна была лошадь сильная, телега крепкая, деньги на проезд, еду, ночлег, обустройство на новом месте. Казна обеспечивала льготный проезд, выдавала денежные ссуды, лес для постройки дома и того, что нужно для хозяйства, продавала сельхозтехнику со скидкой, оборудовала дороги, устраивала колодцы, но и собственных денег переселенцам нужно было немало.
Газета «Амурский край» в мае 1910 года напечатала такую заметку: «Прибыла первая партия переселенцев. Они из Екатеринослава, Херсона, Харькова, Воронежской губернии. По-видимому, народ зажиточный: везут с собой всевозможный домашний скарб, много плугов, почти все имеют дышловые телеги на железных ходах». «Из Благовещенска в Зею двигался обоз переселенцев не менее 150-ти подвод», – сообщала газета «Эхо» в июне 1910 года.
Сколько их было, новосёлов? Сотни тысяч. В 1907 году через Благовещенск прошло 15 000, в 1908 году – 9 000, в 1909 году – 21 000, в 1910 году ожидалось 35 000 переселенцев.
«Целинники» добирались до отведённых им участков и там, в лесу или чистом поле, начинали обживаться. Сергеевку основали молокане из Тамбовской губернии, Натальино – старообрядцы из Забайкалья, Астрахановку – сектанты (прыгуны) из Таврической губернии, Егорьевку – сибирские, Новотроицкое – енисейские православные, Загорную Селитьбу – саратовские староверы… Можно сказать, что переселенцы спроецировали на карту Амурской области карту почти всей Европейской России.
На новом месте всё надо было делать одновременно: строить жильё, корчевать лес, пахать и засевать землю. Укорениться могли только самые сильные, выносливые, работящие: семьи, которые имели много рабочих рук и достаточно денег. Освоившись, переселенцы начинали заниматься промыслами, которыми владели, и для которых были определённые условия. В районах, где рос лес, например, в Зейской волости, они наладили производство колёс, телег, саней, деревянной посуды, гнали дёготь из сосны и берёзы (до 2 000 пудов в год поставляли для золотопромышленных компаний и на склады Благовещенска), заготавливали и сплавляли лес. Там же нашлись подходящие породы камня для выделки мельничных жерновов. Переселенцы, поселившиеся по берегам Буреи, зарабатывали заготовкой сена для приисков, сплавом леса, заготовкой и продажей дров. По Амуру казачье население перевозило грузы, занималось «рыбным и звериным промыслом». Самый большой доход – совокупно до 155 000 рублей в год – давало содержание почтовых станций, которые казаки брали в аренду.
«Земля здесь богата лесами, зверем, рыбой, запасами недр, – писал в книжке для переселенцев А.А. Тарновский. – Не было примера, чтобы человек трудящийся, трезвый и хорошо работающий после трёх-четырёх лет не сделался бы зажиточным хозяином».
Осенью 1908 года были опубликованы результаты обследования почти 5 000 крестьянских хозяйств (26 человек из состава комиссии шталмейстера Н.Л. Гондатти, присланной из Петербурга, в течение лета проводили опросы на территории нынешнего Тамбовского и Ивановского районов; некоторые сведения из этого отчёта опубликовали благовещенские газеты). Руководитель работ С.П. Швецов был в шоке от результатов обследования. «Такого обилия хлеба мне ещё видеть не приходилось. Средний доход хозяйства амурского старожильца 3 283 рублей! Цифры неслыханные для Европейской России.
Поражает обилие машин. На 5 000 хозяйств плугов 6 400, косилок 161, молотилок 730, веялок 1 100, сеялок 3 270, жаток больше 1 500, сноповязалок больше 1 500, усовершенствованных борон – 300, сох – ни одной! (бесполезная вещь, когда обработать надо сотни и тысячи квадратных десятин земли). Машина, хранимая как зеница ока российским крестьянином, здесь трактуется, как самая малоценная вещь. Приходилось видеть, как машины, ещё новые, валялись под дождём в грязи, как негодное старьё! Когда я указал на это хозяину, услышал: «Ничего, она себя оправдала, можно новую купить».
Сельхозтехника была одним из самых ходовых товаров в Благовещенске. Только за 1908 год было продано около 12 000 машин и частей к ним почти на 850 000 рублей (городской бюджет в то время составлял около миллиона рублей!). «За последнее время наша деревня предъявляет громадный спрос на земледельческие машины и орудия, – пишет корреспондент газеты «Эхо». – Это резко бросается в глаза при наблюдении, например, за складом Отто Тимма, откуда крестьяне ежедневно увозят разных сельхозмашин на 20-40 подводах! И это изо дня в день продолжается уже не первый месяц».
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
О нуждах города – Самоуправление – Праздники – Думские хроники
«Благовещенск носит совершенно своеобразную физиономию и не похож ни на один из русских городов», – написал в 1908 году автор «Географического, этнографического и экономического очерка Амурской области» В.П. Врадий.
В начале ХХ века Благовещенск энергично развивался. В 1908 году в городе проживало около 50 000 человек, жилых строений – 4 744, нежилых – 3 887, трактиров и гостиниц – 34, постоялых дворов – 19, съестных лавок – 50, фабрик и заводов – 26. Через год население – около 52 000 человек, жилых строений – 5 652, нежилых – 3 943, трактиров и гостиниц – 30, постоялых дворов – 24, съестных лавок – 62, фабрик, заводов, мастерских – 30, паровых мельниц – 9.
В сентябре 1910 года в городской думе обсуждали доклад «О нуждах города» для Приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти (подробности заседания опубликовала газета «Эхо»). Написали, как есть, и все нужды города уместились в восемь пунктов: мужскую гимназию принять на средства казны; из казны выдать пособие на выполнение плана всеобщего начального образования; выдать из школьного строительного фонда средства на постройку и расширение школьных зданий; реальному училищу придать права правительственного училища; ввести в пользу города попудный сбор за ввозимые и вывозимые товары; содержать психиатрическое отделение городской больницы за счёт земских средств; возместить 7 400 рублей, которые город потратил на призрение семейств запасных нижних чинов в 1905 году; дать отсрочку платежей по правительственным ссудам.
Участвовавший в обсуждении доклада священник Николай Вознесенский сделал очень существенное замечание: «Доклад в Петербурге будут читать люди, не знакомые со здешней жизнью. Сравнительно большой рост города и небольшой его долг (в сравнении с задолженностями городов в Европейской России) может иметь неблагоприятное впечатление». Отец Николай предложил составить комиссию для написания нового, не столь «оптимистичного» доклада, с чем члены думы согласились.
Своеобразный «доклад» о жизни города опубликовал в 1909 году в газете «Эхо» язвительный Фёдор Чудаков.
«Поэзия и проза в Благовещенске. Контрасты»
Экая ночка прекрасная.
Звёздочки ясно горят.
(Вонь по кварталам ужасная.
Что санитары глядят?)
Жизнь приутихла кипучая.
Город спокойно уснул.
(Ах ты, макака вонючая!
В морду его! Караул!)
Всюду горит электричество.
Кто-то под скрипку поёт.
(Пьяных большое количество
На четвереньках ползёт).
Тихо рыдает мелодия
В ясной полуночной мгле.
(«Он меня, выше скобродие,
Сам стебанул по скуле»).
Звуки полны поэтичности,
Будят желанья они.
(Две подозрительных личности
Держатся вместе в тени).
Хочется чистого, сельского
Воздуха, света, тепла.
(Нынче в театре Кумельского
Штучка пикантная шла).
Хочется гнаться за славою
Или молиться в ночи…
(Над городскою управою
Тихо летают сычи).
(Кумельский – театральный антрепренёр).
Городское общественное управление было введено в Благовещенске в 1864 году, а «Городовое положение» (от 1870 г.) – с 1 января 1876 года. Уже осенью 1875 года состоялись выборы в благовещенскую городскую думу. Строительство двухэтажного здания городской управы на Большой улице завершилось в 1891 году. «Над нашим городом, очевидно, висит какое-то проклятие: почти нет ни одного городского здания, которое соответствовало бы тем минимальным требованиям, которые к нему предъявляются, – писал неизвестный благовещенский обыватель в 1908 году. – В городской управе нет кабинета для главы, комнаты для секретаря и бухгалтера, где они могли бы хранить документы, зато есть огромная комната для питья чая».
Через три года, когда городская библиотека переехала в бывший пансионат Алексеевской женской гимназии, помещение, которое она занимала, приспособили под зал думских заседаний. В южном конце зала был оборудован небольшой помост, где установили особый стол для членов городской управы и городского секретаря. Перед помостом в два ряда разместили столы для гласных, ещё два поставили для представителей местной печати. Часть зала отгородили барьером: это место отвели для публики.
«Почему публика не посещает думские заседания? – задаётся вопросом корреспондент газеты «Торгово-промышленный листок объявлений». – Вход разрешен всем без исключения. Нам кажется, присутствие публики в думской зале полезно и необходимо».
Как именно проходили заседания, живописал Фёдор Чудаков в апреле 1910 года на страницах газеты «Эхо» в стихотворении «В новой Думе».
У решетки дамы в шляпах
И мужчины в бородах.
Душный воздух, крепкий запах
(Зал Куртеевым пропах).
Над избранниками люстра
(Сила света – 200 свеч)
И Дулетов очень шустро
Произносит речь.
Этой речи златоуста
Я не в силах передать,
Потому что (будь ей пусто)
Я не мог её понять.
«Я, ты, он, они, мы сами,
Самый, каждый, всё и всех
(У Попова под усами
Притаился смех) –
Только старая управа
Пусть уходит от греха».
(Кто-то бойко крикнул «Браво!»
Кто-то бухнул «Ха-ха-ха!»).
Речь текла легко, как масло
Из бутылки – буль-буль-буль.
Люстра злилась, млела, гасла…
Но в итоге… нуль!
(Д.В. Дулетов – юрист, К.К. Куртеев – журналист, С.П. Попов – гласный городской думы).
Напрасно публика неохотно посещала заседания городской думы: довольно часто заседания проходили бурно, даже скандально – было на что посмотреть, а потом – обсудить.
Вот 16 мая 1909 года Ружицкий и И.А. Койо отказались от звания членов управы. Гласный С.П. Попов пожелал им счастливого пути. Публика зааплодировала. Председатель заседания публику удалил. Некто Бабин при этом упорствовал, его пришлось вывести силой.
Иногда заседания думы бывали закрытыми, как 20 октября 1911 года, о котором рассказал корреспондент газеты «Эхо».
«В думе обсуждался вопрос о введении в городе института ночных сторожей. Городской голова объявил, что вопрос будет рассматриваться при закрытых дверях. Часть публики и гласных стали протестовать, но безрезультатно. Публике и газетным сотрудникам пришлось покинуть зал заседаний.
В перерыве сотрудники газет спросили гласных о причине. Те ответили, что причин к закрытому заседанию, на их взгляд, нет. Тогда сотрудники газет решили выразить свой протест устно. «В виду того, что закрытые думские заседания всё учащаются, мы, представители местной прессы, протестуем против тенденции городского головы скрыть работу городского самоуправления от взоров городского населения. Мы против закрытых дверей при рассмотрении вопроса о введении ночных сторожей, так как он затрагивает интересы широких слоёв населения».
Едва один из журналистов начал произносить это заявление (двери ещё были открыты), как городской голова его остановил и заявил: «Если кому-то решение не нравится, могут подавать жалобу начальнику области». После этого в знак протеста сотрудники газет покинули зал заседаний!
Время от времени происходили подобные эксцессы, но думцы и пресса всегда находили компромиссы, в том числе, чтобы оповещать жителей о таких важных событиях, как, например, обсуждение городского бюджета. 4 апреля 1908 года «Торгово-промышленный листок объявлений» опубликовал подробный отчёт с заседания городской думы, посвящённого этому вопросу. «Экономический кризис, полный застой в делах и безденежье привели городское самоуправление в пиковое положение. Городские недоимки растут и к настоящему времени составляют около 60 000 рублей. Многие гласные во время заседания разражаются гневными филиппиками, обвиняя управу в мотовстве и нерасчётливости.
Гласный Е.И. Ефимов: «Рассорили городские деньги! Около 10 000 рублей растратили!»
Гласные, хором: «Это голословно! Ничего подобного!»
Гласный Е.И. Ефимов: «На непредвиденные расходы голове 1 000 рублей, доктору Чердынцеву на лечение – 1 200, на поездку городского головы в Петербург – 5 000 (ездил хлопотать о соединении Благовещенска с Амурской железной дорогой), И.В. Ельцову – 1 200 рублей за что?»
Представитель управы: «Нужно ещё до 25 000 рублей, а в кассе только 5 000. Нечем платить жалование служащим».
Гласный И.О. Мокин: «А кто поручится, что деньги не будут выброшены, как на «кузнецкую канаву», колодцы, городские каменные ряды, которые теперь никуда не годятся – стены сложены без извести и грозят рухнуть?»
Гласный Э.И. Шеффер: «Откуда знает Мокин, что ряды рухнут? А если так, почему раньше не говорил?»
Настроение у гласных повышенное, все спорят, никто никого не слушает. Чувствуется сильный недостаток в энергичном председателе. Требуют позвать городского архитектора. Он не хочет оправдываться, а просит назначить комиссию, которая осмотрит каменные лавки и сделает доклад».
О том, как формировался бюджет города на 1911 год, читатели местных газет информировались самым подробным образом. Первоначально цифры были такими: доход 960 440 рублей, расход – 1 481 802 рубля, дефицит – 520 362 рубля. Дефицит был огромным. Чтобы как-то свести концы с концами, финансовая комиссия два месяца перекраивала бюджет, урезая, что можно. 28 марта 1911 года дума вновь обсуждала варианты бюджета. По ходу заседания гласный А.М. Клосс призвал не паниковать: «Доходы от электростанции, городских лавок и другие с лихвой покрывают расходы по займам. Надо не сокращать расходы, а искать возможность повысить доходы»; гласный Соколов заявил, что «надо экономить, резать и жить по средствам».