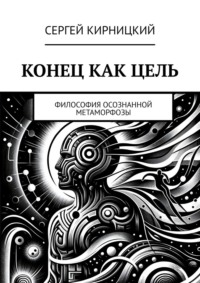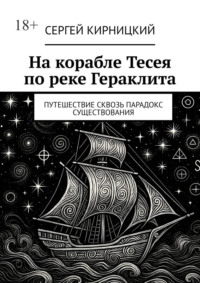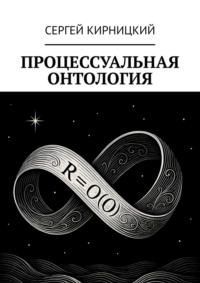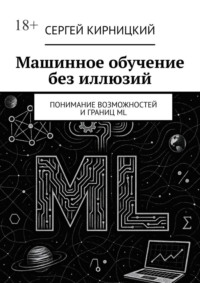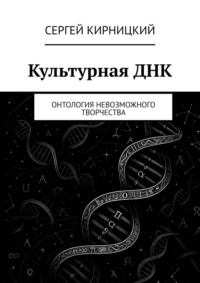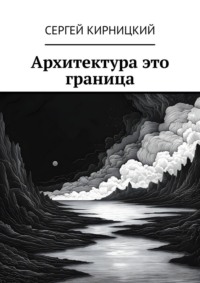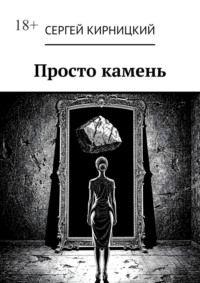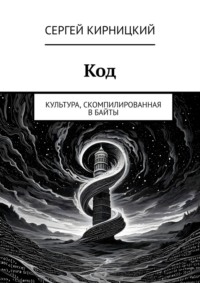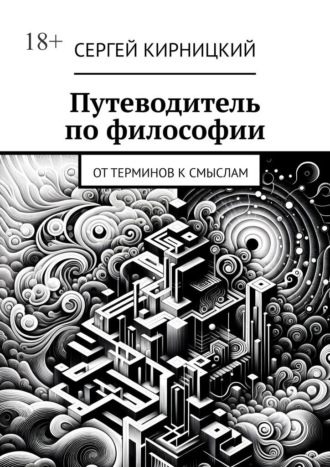
Полная версия
Путеводитель по философии. От терминов к смыслам
2.4. Аристотель и учение о категориях бытия
Онтологическая концепция Аристотеля (384—322 до н.э.) развивалась в критическом диалоге с платоновской теорией идей. Будучи учеником Платона, Аристотель во многом исходил из проблематики, сформулированной его учителем, однако предложил радикально иной подход к пониманию бытия, стремясь преодолеть дуализм идеального и материального миров и создать более целостную и эмпирически обоснованную картину реальности.
Критика платоновской теории идей
Аристотель выдвинул ряд серьезных аргументов против платоновской концепции трансцендентных идей, некоторые из которых сохраняют философскую значимость до сих пор:
– Удвоение реальности. Постулирование отдельного мира идей, по мнению Аристотеля, приводит к ненужному удвоению сущностей. Если для объяснения, почему этот стол является столом, мы постулируем существование идеи Стола, то какую дополнительную объяснительную силу дает нам это постулирование? Мы просто дублируем проблему, не решая ее.
– Регресс в бесконечность. Если сходство между множеством вещей объясняется их причастностью к общей идее, то сходство между этими вещами и самой идеей требует постулирования еще одной идеи, и так до бесконечности (аргумент «третьего человека»).
– Проблема отношения между идеями и вещами. Метафоры «причастности» и «подражания», используемые Платоном, по мнению Аристотеля, не проясняют, а затемняют характер отношений между умопостигаемыми идеями и чувственными вещами. Как именно происходит «причастность» материальной вещи к нематериальной идее? Как может чувственный объект «подражать» умопостигаемому образцу?
– Неспособность объяснить движение и изменение. Статичные, неизменные идеи Платона, по мнению Аристотеля, не могут служить адекватной причиной движения и изменения в материальном мире. Как неподвижное может быть причиной движения, как неизменное может вызывать изменение?
Критикуя Платона, Аристотель, однако, не отбрасывает полностью его интуиции. Он скорее трансформирует их, стремясь интегрировать рациональные элементы платонизма в более эмпирически ориентированную онтологию. Вместо раздельного существования идей и вещей Аристотель предлагает модель, в которой общее («универсалии») существует не отдельно от единичного, а в самом единичном.
Концепция материи и формы
Центральным элементом аристотелевской онтологии является учение о материи и форме – гилеморфизм (от греч. ὕλη, hylē – «материя» и μορφή, morphē – «форма»). Согласно этому учению, каждая конкретная вещь представляет собой единство материи и формы.
Материя (ὕλη, hylē) – это то, из чего состоит вещь, субстрат или потенциальность. Форма (μορφή, morphē или εἶδος, eidos) – это то, что делает вещь определенной вещью определенного вида, актуализация этой потенциальности. Например, в мраморной статуе мрамор является материей, а конфигурация, придаваемая скульптором, – формой.
Важно отметить, что форма у Аристотеля – это не внешний по отношению к вещи образец (как идея у Платона), а имманентный принцип, структурирующий материю изнутри. Форма не существует отдельно от материальных вещей (за исключением особых случаев, о которых речь пойдет ниже), но и не сводится к материальной конфигурации. Она представляет собой активный принцип, который определяет, чем является вещь в своей сущности.
Отношение материи и формы – это не статическое соотношение двух изолированных компонентов, а динамический процесс актуализации потенциальности. Материя – это всегда потенциальность, возможность стать чем-то определенным. Форма – это актуализация этой возможности, приведение потенциального в состояние действительности.
Это динамическое понимание соотношения материи и формы позволяет Аристотелю создать гибкую онтологическую модель, которая может объяснить как устойчивость, так и изменчивость бытия. Материально-формальная структура вещей объясняет их относительную стабильность (форма обеспечивает идентичность и непрерывность существования), а потенциальность материи объясняет возможность изменения (материя может принимать новые формы).
Важнейшим аспектом аристотелевского гилеморфизма является его относительность: то, что в одном отношении является формой, в другом может выступать как материя. Например, кирпичи являются материей для дома, но сами кирпичи имеют свою форму, структурирующую глину, которая является для них материей. Эта глина, в свою очередь, имеет определенную форму, структурирующую более базовые элементы, и так далее. В пределе этой регрессии Аристотель говорит о «первой материи» (πρώτη ὕλη, prōtē hylē) – чистой потенциальности, лишенной какой-либо формы и определенности.
На противоположном конце спектра находится «чистая форма» или «форма форм» – божественный Ум (Νοῦς, Nous), который мыслит сам себя и является абсолютной актуальностью, лишенной какой-либо потенциальности или материальности. Таким образом, аристотелевская онтология, как и платоновская, предполагает иерархическую структуру бытия, но эта иерархия не разрывает реальность на два отдельных мира, а представляет собой континуум от чистой потенциальности к чистой актуальности.
Учение о четырех причинах
Другим фундаментальным аспектом аристотелевской онтологии является учение о четырех причинах или началах (αἰτίαι, aitiai) всего сущего. Это учение отражает стремление Аристотеля дать полное объяснение любому явлению, учитывая различные аспекты его бытия.
– Материальная причина (causa materialis) – то, из чего состоит вещь, её субстрат. Для стула это дерево, для статуи – мрамор, для живого организма – его органические составляющие.
– Формальная причина (causa formalis) – сущность вещи, её структура или паттерн, который делает её тем, что она есть. Для стула это его конфигурация, для живого организма – его видовая форма или природа.
– Действующая причина (causa efficiens) – источник изменения или покоя, то, что приводит вещь к существованию. Для стула это столяр, для статуи – скульптор, для живого организма – его родители.
– Целевая причина (causa finalis) – цель или предназначение вещи, то, ради чего она существует. Для стула это функция сидения, для статуи – эстетическое наслаждение, для живого организма – его полное развитие и функционирование.
Это учение представляет собой своеобразный онтологический «контрольный список», позволяющий дать полное объяснение бытия вещи. Только учитывая все четыре причины, мы можем, по Аристотелю, достичь полного понимания того, почему вещь существует и почему она такова, какова она есть.
Особое значение для аристотелевской онтологии имеет понятие целевой причины или телеологии (от греч. τέλος, telos – «цель»). Аристотель рассматривает природу как целенаправленный процесс, в котором каждая вещь стремится к реализации своей внутренней цели – энтелехии (ἐντελέχεια, entelecheia, от ἐντελής, entelēs – «завершенный» и ἔχω, echō – «иметь»). Энтелехия – это полная реализация потенциала вещи, её переход из состояния возможности в состояние действительности.
Телеологическое понимание природы не предполагает наличия внешнего создателя, сознательно преследующего цели (как в платоновском «Тимее»). Цель у Аристотеля имманентна самой природе вещей, она встроена в их сущность. Так, естественная тенденция желудя – стать дубом, а не чем-то иным, и это развитие происходит не в результате внешнего вмешательства, а в силу внутренней природы желудя.
Категории как высшие роды бытия
Одним из важнейших аспектов онтологии Аристотеля является его учение о категориях (κατηγορίαι, katēgoriai) – высших родах бытия и соответствующих им способах предикации. В трактате «Категории» Аристотель выделяет десять таких категорий:
– Сущность (οὐσία, ousia) – то, что существует самостоятельно и не нуждается в другом для своего существования: «этот человек», «эта лошадь».
– Количество (ποσόν, poson) – то, что поддается счету или измерению: «два локтя», «три».
– Качество (ποιόν, poion) – свойства и характеристики вещи: «белое», «грамматическое».
– Отношение (πρός τι, pros ti) – связь между вещами: «двойное», «большее».
– Место (ποῦ, pou) – позиция вещи в пространстве: «в Ликее», «на площади».
– Время (πότε, pote) – позиция вещи во временном континууме: «вчера», «в прошлом году».
– Положение (κεῖσθαι, keisthai) – пространственная ориентация частей вещи: «сидит», «лежит».
– Обладание (ἔχειν, echein) – то, что вещь имеет или чем она обладает: «обут», «вооружен».
– Действие (ποιεῖν, poiein) – то, что вещь делает: «режет», «горит».
– Претерпевание (πάσχειν, paschein) – то, что происходит с вещью: «режется», «сгорает».
Эти категории представляют собой не просто лингвистическую классификацию, но онтологическую структуру самой реальности. Они являются предельными родами бытия, за которыми не существует более общих понятий. Любое сущее может быть описано в терминах этих категорий, причем первая категория – сущность – занимает центральное место, так как она обозначает то, что существует самостоятельно, в то время как остальные категории обозначают то, что существует только в сущности и благодаря ей.
Категории – это не просто классификационная схема, но способ артикуляции базовых структур реальности. Они отражают многообразие способов бытия, которое не может быть сведено к какому-то одному аспекту. В этом смысле аристотелевское учение о категориях представляет собой попытку создать плюралистическую онтологию, которая признает множественность и разнообразие форм бытия, при этом сохраняя их единство в общей структуре.
Особое внимание Аристотель уделяет первой категории – сущности (οὐσία, ousia), которая является фундаментом его онтологии. Он различает первичные и вторичные сущности. Первичные сущности – это конкретные индивидуальные вещи: «этот человек», «эта лошадь». Вторичные сущности – это виды и роды: «человек», «животное». Такое деление отражает характерный для Аристотеля подход, который можно назвать «умеренным реализмом»: универсалии (общие понятия) реальны, но они не существуют отдельно от индивидуальных вещей, а обретают бытие только в этих вещах и через них.
Онтология Аристотеля оказала огромное влияние на всю последующую философскую мысль. Его концепции материи и формы, потенциальности и актуальности, четырех причин, категорий сущего стали фундаментальными элементами западной метафизической традиции. Средневековая схоластика, в особенности томизм, во многом строилась на аристотелевской онтологической базе. Даже современные философские направления, такие как неоаристотелизм и определенные варианты аналитической метафизики, продолжают развивать и переосмыслять аристотелевское наследие.
2.5. Современные онтологические подходы
После расцвета античной и средневековой метафизики, с наступлением Нового времени онтология как дисциплина о бытии как таковом пережила период критики и частичного отступления под натиском эпистемологической проблематики. Декарт, Локк, Юм и другие мыслители переориентировали философский фокус с вопроса «Что существует?» на вопрос «Что мы можем знать?». Кант, провозгласив невозможность метафизики как науки и ограничив теоретическое познание сферой опыта, казалось бы, нанес решающий удар по традиционной онтологии.
Однако онтологические вопросы оказались слишком фундаментальными, чтобы быть полностью исключенными из философского дискурса. XX век ознаменовался возрождением интереса к онтологической проблематике, хотя и в существенно трансформированном виде. Современные онтологические подходы многообразны и отражают как преемственность с классической традицией, так и радикальные концептуальные инновации.
Феноменологическая онтология
Феноменология, основанная Эдмундом Гуссерлем (1859—1938), на первый взгляд кажется скорее эпистемологическим, чем онтологическим проектом, поскольку ее основной метод – феноменологическая редукция – предполагает «заключение в скобки» вопроса о реальном существовании объектов опыта и сосредоточение на структурах сознания. Однако в поздних работах Гуссерля, особенно в «Кризисе европейских наук», онтологическая проблематика выходит на первый план в концепции «жизненного мира» (Lebenswelt) – дотеоретического горизонта всех наших практик и познавательной деятельности.
Гуссерль также разработал концепцию «региональных онтологий», соответствующих различным областям или «регионам» бытия: материальной природе, живым организмам, психическим процессам, социальным и культурным объектам. Каждая из этих областей имеет свои собственные сущностные структуры, которые могут быть выявлены посредством эйдетической интуиции – особого рода феноменологического усмотрения сущностей.
Эта идея о множественности онтологических регионов, каждый со своими собственными категориями и законами, представляет собой важный отход от классической метафизики с ее поиском единых, универсальных принципов бытия. Феноменологический подход предполагает, что онтология должна быть чувствительна к качественным различиям между разными типами сущего и не должна пытаться редуцировать их к какому-то единому базовому уровню или субстрату.
Макс Шелер (1874—1928), один из крупнейших феноменологов после Гуссерля, развил феноменологическую онтологию в направлении философской антропологии, исследуя уникальное «место человека в космосе». Он видел человека как существо, способное трансцендировать свою биологическую природу и открытое духовному измерению бытия. Шелеровская иерархия ценностей – от низших, чувственных, к высшим, духовным – также имеет глубокие онтологические импликации, предполагая существование объективного царства ценностей, постигаемых через эмоциональное восприятие.
Николай Гартман (1882—1950), хотя и отошел от строгой феноменологической методологии, создал масштабную онтологическую систему, которая во многом основывалась на гуссерлевском понятии региональных онтологий. Гартман развил учение о «слоях бытия» – неорганическом, органическом, психическом и духовном – каждый из которых имеет свои собственные категории и законы. Низшие слои могут существовать без высших, но не наоборот: духовное бытие невозможно без психического, психическое – без органического, органическое – без неорганического. Такая стратификация бытия позволяет Гартману избежать как редукционизма, сводящего высшие слои к низшим, так и идеализма, выводящего низшие слои из высших.
Хайдеггер и фундаментальная онтология
Мартин Хайдеггер (1889—1976), начав свой философский путь как феноменолог, радикально трансформировал феноменологический метод, переориентировав его с исследования сознания на исследование бытия. В своем программном труде «Бытие и время» (1927) он поставил вопрос о смысле бытия (Seinsfrage) как центральный вопрос философии, который, по его мнению, был забыт в истории западной метафизики.
Хайдеггер ввел различение между бытием (Sein) и сущим (Seiende). Сущее – это конкретные вещи, которые существуют, будь то материальные объекты, люди, события или идеи. Бытие же – это не какое-то супер-сущее, не высший род, не общее свойство всех существующих вещей, а скорее «то, в силу чего сущее есть сущее». Бытие, по Хайдеггеру, не есть нечто, что можно просто обнаружить среди других вещей или вывести из них, оно требует особого подхода – фундаментальной онтологии.
Путь к пониманию бытия Хайдеггер видит через анализ особого сущего – человеческого существования, которое он обозначает термином Dasein (буквально «вот-бытие» или «здесь-бытие»). Dasein уникально тем, что в своем бытии оно уже всегда имеет определенное понимание бытия; более того, его собственное бытие «стоит для него на кону», является для него вопросом. Этот экзистенциальный характер человеческого бытия делает Dasein «просветом бытия», местом, где бытие выходит на свет, становится доступным пониманию.
Через феноменологический анализ структуры Dasein Хайдеггер выявляет его фундаментальные экзистенциалы – не свойства или категории, а способы быть: бытие-в-мире, забота, временность, бытие-к-смерти и др. Эти экзистенциалы указывают на временной характер человеческого существования и, в конечном счете, на временность как горизонт понимания бытия как такового.
В поздних работах Хайдеггер отходит от экзистенциальной аналитики Dasein и обращается к более прямому исследованию бытия через язык, особенно поэтический, и через критику технологического понимания бытия, которое, по его мнению, доминирует в современной эпохе. Он говорит о «событии» (Ereignis) как о способе, которым бытие дарует себя, и о необходимости «пастушеского» отношения к бытию – внимательного, заботливого слушания, в противоположность воле к власти и технологическому овладению.
Хайдеггеровская онтология представляет собой радикальный разрыв с традиционной метафизикой, которую он критикует за «забвение бытия», за подмену вопроса о бытии вопросом о сущем, будь то Бог, субстанция, субъект или воля к власти. Его проект «деструкции» истории онтологии направлен на выявление неартикулированных предпосылок, которые направляли западную метафизическую мысль, начиная с Платона и Аристотеля, и открытие нового, не-метафизического мышления о бытии.
Аналитические подходы к онтологии
Параллельно с континентальной феноменологической традицией, в англоязычной аналитической философии XX века также происходило возрождение интереса к онтологической проблематике, хотя и в совершенно ином ключе. Если феноменология и экзистенциализм обращались к опыту и языку как к «местам», где раскрывается бытие, то аналитические философы были больше заинтересованы в логическом анализе языка и его онтологических обязательствах.
Уиллард Ван Орман Куайн (1908—2000) в своей знаменитой статье «О том, что есть» (1948) сформулировал критерий онтологических обязательств: мы принимаем существование тех и только тех сущностей, которые входят в область значений связанных переменных в наших лучших научных теориях. «Быть – значит быть значением связанной переменной» – эта формула стала основой для многих последующих дискуссий в аналитической онтологии.
Куайн также ввел понятие «онтологической относительности», согласно которому вопрос о том, что существует, не имеет абсолютного, независимого от теории ответа. Мы можем говорить о существовании определенных объектов только в рамках той или иной теории, и перевод с языка одной теории на язык другой всегда возможен несколькими способами. Эта позиция противостоит как наивному реализму, предполагающему прямой доступ к реальности «как она есть», так и идеализму, сводящему реальность к конструкциям сознания.
Питер Фредерик Стросон (1919—2006) в своей работе «Индивиды: Опыт дескриптивной метафизики» (1959) предложил подход, который он назвал «дескриптивной метафизикой» в противоположность «ревизионистской». Дескриптивная метафизика стремится выявить базовые категориальные структуры, которые неявно присутствуют в нашем обыденном мышлении о мире, не пытаясь их исправлять или заменять, как это делает ревизионистская метафизика. Стросон утверждал, что материальные объекты и личности являются базовыми партикуляриями – сущностями, которые могут быть идентифицированы и переидентифицированы без необходимости идентификации чего-либо еще.
Дэвид Кейт Льюис (1941—2001) разработал радикальную форму модального реализма, согласно которой все возможные миры так же реальны, как и актуальный мир. Различие между актуальным и возможными мирами, по Льюису, не онтологическое, а индексное, подобно различию между «здесь» и «там»: актуальный мир – это просто тот мир, в котором находимся мы. Эта онтологически щедрая позиция позволяет Льюису давать прямые, неиндуктивные анализы контрфактических условных предложений, свойств, пропозиций и других модальных феноменов.
Хилари Патнэм (1926—2016) и Сол Крипке (род. 1940) существенно повлияли на онтологические дискуссии своими работами по философии языка и философии сознания. Крипке развил теорию жесткой десигнации и необходимости апостериори, которая имеет важные импликации для понимания идентичности объектов и естественных видов. Патнэм аргументировал против мозгоцентрических теорий значения, введя мысленный эксперимент «Мозги в бочке» и развивая концепцию семантического экстернализма, согласно которой значения «не в голове».
В последние десятилетия в рамках аналитической философии возникло направление, известное как «натурализованная метафизика» или «научная метафизика», которое стремится развивать онтологию в тесной связи с данными и теориями современной науки. Такие философы, как Джеймс Лэдимен и Дон Росс, в работе «Всё должно идти: метафизика натурализованная» (2007) утверждают, что традиционная метафизика, ориентированная на интуиции и обыденный опыт, должна уступить место метафизике, которая принимает всерьез революционные онтологические импликации современной физики, особенно квантовой механики и теории относительности.
Современные проблемы онтологии
Современная онтология сталкивается с рядом новых вызовов, связанных как с развитием науки и технологий, так и с социальными и культурными трансформациями. Рассмотрим некоторые из ключевых проблем, которые находятся в фокусе современных онтологических исследований.
Проблема сознания и разума
Одной из самых актуальных и сложных проблем современной онтологии является проблема сознания. Как соотносятся физические процессы в мозгу и субъективный опыт? Можно ли редуцировать ментальные феномены к физическим, или сознание представляет собой фундаментально иной тип реальности?
Дэвид Чалмерс в своей статье «Сознающий ум» (1996) сформулировал различие между «легкими» и «трудной» проблемами сознания. «Легкие» проблемы касаются объяснения различных когнитивных функций и процессов, таких как внимание, память, восприятие, которые в принципе поддаются функциональному и нейробиологическому анализу. «Трудная» проблема – это вопрос о том, почему и как физические процессы в мозгу сопровождаются субъективным опытом, «каково это» (what-it-is-like) переживанием.
Различные ответы на эту проблему сформировали спектр онтологических позиций: от редуктивного материализма, отрицающего особый статус ментального и сводящего его к физическому, до дуализма свойств, признающего нередуцируемость ментальных свойств к физическим, и панпсихизма, приписывающего некоторую форму прото-сознания всей материи.
Виртуальная реальность и цифровое бытие
Развитие цифровых технологий, виртуальной и дополненной реальности порождает новые онтологические вопросы. Какой статус имеют виртуальные объекты и пространства? Можно ли говорить о «существовании» виртуальных сущностей в том же смысле, в каком мы говорим о существовании физических объектов?
Эти вопросы приобретают особую остроту в контексте растущей интеграции цифровых технологий в повседневную жизнь. Если значительная часть социальных взаимодействий, экономических транзакций, образовательных практик переносится в виртуальное пространство, то традиционное онтологическое разделение на «реальное» и «виртуальное» становится все более проблематичным.
Философы, работающие в этой области, такие как Дэвид Дж. Чалмерс в статье «Виртуальные миры и реализм в отношении виртуального» (2017), исследуют, можно ли считать виртуальные миры «реальными» в философски значимом смысле. Чалмерс аргументирует, что виртуальные объекты не являются просто иллюзиями или симуляциями, но представляют собой реальные объекты особого цифрового типа, обладающие своими собственными свойствами и каузальными силами.
Информационная онтология
В связи с развитием информационных технологий и искусственного интеллекта возникает вопрос об онтологическом статусе информации. Является ли информация фундаментальным аспектом реальности, наряду с материей и энергией, или это производная, эмергентная сущность?
Лучано Флориди, итальянский философ, специализирующийся на философии информации, в своих работах развивает концепцию информационного структурного реализма, согласно которой реальность в конечном счете имеет информационную природу. Согласно этому подходу, физические объекты могут рассматриваться как информационные паттерны определенного типа.
В области философии физики такие мыслители, как Джон Арчибальд Уилер, выдвинули идею «it from bit» – гипотезу о том, что фундаментальная реальность имеет информационную, а не материальную природу. Эта идея находит отражение в некоторых интерпретациях квантовой механики и теоретических исследованиях на стыке квантовой физики и информатики.