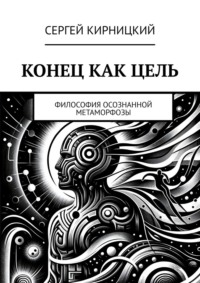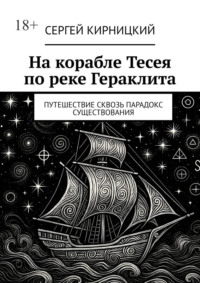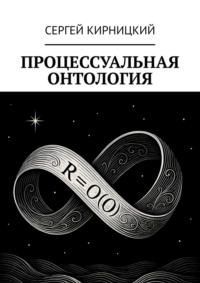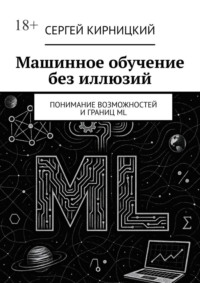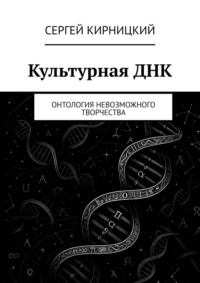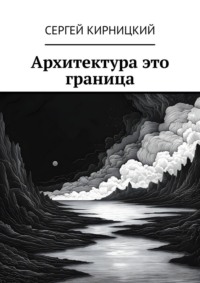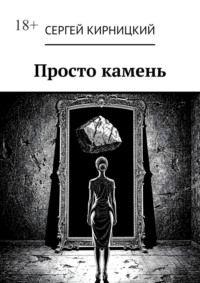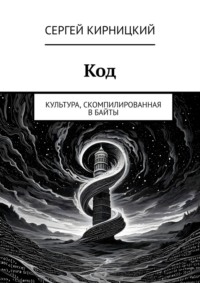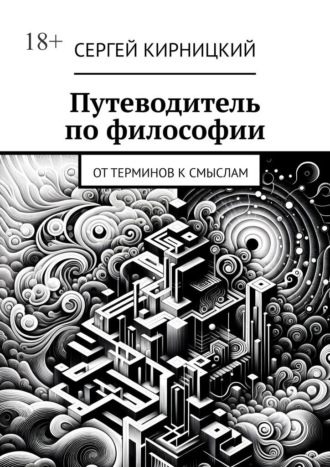
Полная версия
Путеводитель по философии. От терминов к смыслам
Каждое утро мы просыпаемся в мире, существование которого кажется нам самоочевидным. Вещи, которые нас окружают, люди, с которыми мы взаимодействуем, мысли, которые проносятся в нашем сознании – все они обладают некоторой формой бытия, присутствия, реальности. Но стоит лишь на мгновение остановиться и спросить себя: «Что значит „быть“?», «В каком смысле существуют материальные предметы и в каком – наши мысли о них?», «Есть ли универсальная структура реальности, скрытая за многообразием явлений?» – и мы оказываемся в центре древнейшего и фундаментальнейшего философского вопрошания. Мир, только что казавшийся таким понятным и привычным, внезапно становится загадкой, а наиболее фундаментальные, обыденные понятия – «быть», «существовать», «реальность» – требуют прояснения. Именно в этом пространстве философского удивления перед лицом наиболее очевидного и возникает онтология – учение о бытии как таковом, о предельных основаниях всего существующего.
Онтология занимает особое место среди философских дисциплин. Если другие области философии исследуют определенные аспекты реальности – познание, ценности, язык, – то онтология задается вопросом о самой природе реальности как таковой. Она стремится понять не просто, как устроены отдельные регионы сущего, но что значит быть, существовать, обладать реальностью. В этом смысле онтология представляет собой наиболее радикальное философское предприятие – попытку мысли достичь предельных оснований всего, что есть, включая самое себя.
В данной главе мы отправимся в путешествие по истории и структуре онтологической мысли – от первых попыток древнегреческих философов помыслить первоначало всего сущего через классические системы Платона и Аристотеля к современным онтологическим концепциям, которые продолжают трансформировать наше понимание бытия в эпоху цифровых технологий, квантовой физики и искусственного интеллекта. Мы увидим, как философский вопрос о бытии, возникший более двух с половиной тысячелетий назад, не только не теряет своей остроты и значимости, но приобретает новые измерения и практические следствия в современном интеллектуальном и культурном ландшафте.
2.1. Определение и происхождение термина
Термин «онтология» имеет сравнительно недавнее происхождение, хотя проблематика, которую он обозначает, восходит к самым истокам философской мысли. Он образован от древнегреческих слов «ὄντος» (ontos – «сущее», родительный падеж от «ὤν», «бытие») и «λόγος» (logos – «учение», «слово», «наука») и буквально означает «учение о сущем». В философский лексикон термин «онтология» вошел лишь в XVII веке, когда немецкий философ Рудольф Гоклениус впервые использовал его в своем «Философском лексиконе» (1613). Однако широкое распространение термин получил благодаря работам немецкого рационалиста Христиана Вольфа, который в своем труде «Первая философия, или Онтология» (1730) определил ее как науку о бытии как таковом, которая изучает «сущее вообще, поскольку оно есть сущее».
Хотя сам термин появился относительно поздно, онтология как область философского исследования существовала задолго до его формального обозначения. Аристотель, не используя термин «онтология», говорил о «первой философии» (πρώτη φιλοσοφία) или о науке, изучающей «сущее как сущее» (τὸ ὂν ᾗ ὄν) – то есть бытие в его наиболее фундаментальных характеристиках. Позднее эту область философского исследования стали называть «метафизикой» – термином, который возник случайно (благодаря Андронику Родосскому, который, редактируя труды Аристотеля, поместил книги о «первой философии» после книг по физике, назвав их «τὰ μετὰ τὰ φυσικά» – «то, что после физики»), но приобрел глубокий символический смысл: метафизика исследует то, что лежит за пределами физической, чувственно воспринимаемой реальности.
В философской традиции сложилось два понимания соотношения онтологии и метафизики. Согласно первому, эти термины по сути синонимичны и обозначают исследование наиболее фундаментальных аспектов реальности. Согласно второму, онтология является частью метафизики, которая помимо онтологии включает в себя такие области, как космология (учение о мире как целом), рациональная психология (учение о душе) и рациональная теология (учение о Боге). В современной философии чаще всего термин «онтология» используется более нейтрально, без теологических и космологических коннотаций, которые исторически ассоциировались с метафизикой.
Онтология задается рядом фундаментальных вопросов:
– Что значит «быть», «существовать»? Каковы критерии или признаки существования?
– Что существует первично, а что производно? Есть ли некое первоначало всего сущего?
– Существует ли единая основа реальности, или мир плюралистичен в своих проявлениях?
– Какова природа отношений между различными типами сущего: материальными объектами, сознанием, абстрактными сущностями?
– Существуют ли универсальные категории, с помощью которых можно описать все многообразие сущего?
– Каково соотношение между возможностью и действительностью, потенциальным и актуальным?
Эти вопросы не являются абстрактными спекуляциями, оторванными от реальности. Наоборот, они возникают именно из попытки мысли ухватить наиболее фундаментальные аспекты нашей повседневной вовлеченности в мир. Как отмечал Хайдеггер, вопрос о бытии – это не просто теоретический вопрос, но вопрос, который затрагивает самое основание человеческого существования. Мы всегда уже имеем некое дотеоретическое, имплицитное понимание бытия – иначе мы не могли бы действовать в мире, различать вещи, оперировать понятиями. Задача онтологии – сделать это имплицитное понимание эксплицитным, артикулировать и прояснить то, что обычно скрыто от нас в силу своей близости и очевидности.
Центральное место онтологии в системе философского знания связано с тем, что она исследует предпосылки, которые лежат в основе всех других типов познавательной деятельности. Любая наука, будь то физика, биология или социология, уже предполагает определенные онтологические допущения о природе реальности, которую она изучает. Эти допущения обычно не становятся предметом рефлексии в рамках самой науки, но именно они делают возможным научное исследование как таковое. Онтология, таким образом, выполняет метатеоретическую функцию, исследуя те фундаментальные категории и предпосылки, которые лежат в основе нашего понимания мира и всех форм познавательной деятельности.
2.2. Ранняя греческая онтология: поиск первоначала
История западной онтологии начинается с фундаментального вопроса, который поставили перед собой первые греческие философы: что является архэ (ἀρχή) – первоначалом, первопринципом, фундаментальной основой всего сущего? Этот вопрос был революционным по своей сути, поскольку впервые предполагал возможность рационального, а не мифологического объяснения устройства мира. Вместо повествований о богах и героях, ранние греческие мыслители искали единый, универсальный принцип, лежащий в основе многообразия явлений.
Милетская школа: от вещества к принципу
Основатель Милетской школы – и традиционно считающийся «первым философом» – Фалес (ок. 624—546 до н.э.) выдвинул тезис: «Все есть вода». На первый взгляд это утверждение может показаться наивным, но в нем заключен глубокий онтологический прорыв. Фалес предположил, что за видимым многообразием вещей скрывается единая субстанция, которая принимает различные формы. Вода – текучая, способная менять агрегатные состояния, поддерживающая жизнь – виделась ему идеальным кандидатом на роль такого первоначала.
Ученик Фалеса, Анаксимандр (ок. 610—546 до н.э.), сделал еще более радикальный шаг в развитии онтологической мысли. Он предложил в качестве архэ не какое-либо конкретное вещество, а апейрон (ἄπειρον) – «беспредельное», неопределенное начало, не сводимое ни к одной из стихий. Апейрон у Анаксимандра – это бесконечная, вечная, недифференцированная субстанция, из которой возникают и в которую возвращаются все вещи. В этой концепции мы видим переход от поиска материального первоначала к попытке помыслить более абстрактный, метафизический принцип бытия.
Третий представитель Милетской школы, Анаксимен (ок. 585—525 до н.э.), вернулся к идее материального первоначала, но с важным онтологическим уточнением. Он предложил в качестве архэ воздух, но подчеркнул, что различные вещи возникают из этого первоначала путем разрежения и сгущения. Тем самым Анаксимен впервые ввел идею механизма трансформации первоначала во множественность вещей, пытаясь объяснить, как единое может порождать многое.
Значение Милетской школы для онтологии трудно переоценить. Эти мыслители заложили основы рационального подхода к исследованию бытия, поставив вопрос о единой основе множественности явлений. Они первыми попытались выйти за пределы чувственного восприятия отдельных вещей к постижению их фундаментального единства. В их поиске первоначала мы видим первые шаги к созданию концептуального аппарата для описания бытия как такового, за пределами его конкретных проявлений.
Гераклит: логос и поток
Гераклит Эфесский (ок. 544—483 до н.э.), известный в античности как «Темный» из-за сложности его мысли, внес революционный вклад в развитие онтологии. В отличие от милетцев, которые искали стабильное материальное начало, Гераклит поместил в центр своей онтологической концепции идею непрерывного изменения. Его знаменитое «πάντα ῥεῖ» («все течет») выражает фундаментальное онтологическое прозрение: бытие – это не статичное состояние, а непрерывный процесс становления.
В известной иллюстрации своего тезиса Гераклит говорит, что «нельзя войти в одну и ту же реку дважды», поскольку каждый момент это уже другая река – вода течет, берега меняются, дно трансформируется. Этот образ реки глубже, чем кажется на первый взгляд: река одновременно остается той же самой (как идентифицируемый объект) и постоянно меняется (в своем материальном составе). Тем самым Гераклит открывает фундаментальную онтологическую проблему: как мыслить идентичность в изменении, постоянство в потоке.
Однако ошибочно видеть в Гераклите простого апологета неограниченного изменения. Для него поток изменений управляется логосом (λόγος) – универсальным принципом, космическим законом, который придает порядок и меру всем изменениям. Логос – это не только объективный закон мироздания, но и то, что может быть постигнуто человеческим разумом (не случайно в греческом «логос» означает также «слово», «речь», «разум»). Тем самым Гераклит вводит важнейшую для всей последующей онтологии идею рациональной структуры бытия, которая, несмотря на постоянное изменение материальной стороны вещей, может быть схвачена в мысли.
Еще одна ключевая идея онтологии Гераклита – единство противоположностей. «Путь вверх и путь вниз – один и тот же», «морская вода чистейшая и грязнейшая одновременно» – эти и другие парадоксальные утверждения выражают фундаментальное онтологическое прозрение: противоположности не просто сменяют друг друга во времени, но сосуществуют в едином напряженном единстве. Борьба противоположностей для Гераклита – не разрушительная сила, а творческий принцип, «отец всех вещей». Этим тезисом Гераклит предвосхитил диалектические концепции бытия, которые будут развиты гораздо позже – от Гегеля до Маркса.
Парменид и Элейская школа: логика бытия
Если Гераклит поставил в центр своей онтологии идею непрерывного изменения, то Парменид из Элеи (ок. 515—450 до н.э.) представил диаметрально противоположную концепцию бытия. В своей философской поэме «О природе» он сформулировал тезис, который стал фундаментальным для всей последующей онтологии: «Бытие есть, небытия нет» (ἔστι γὰρ εἶναι, μηδὲν δ’οὐκ ἔστιν).
Это утверждение, кажущееся на первый взгляд тавтологическим, содержит в себе революционный онтологический прорыв. Парменид впервые четко разделил бытие и мышление, и одновременно установил между ними необходимую связь. Бытие, согласно Пармениду, – это то, что может быть помыслено; небытие немыслимо по определению. Из этого он делает радикальный вывод: если небытие немыслимо, то невозможно и изменение, и множественность, и движение – ведь все эти явления предполагают, что нечто, бывшее X, становится не-X, то есть предполагают некую форму небытия.
Логически развивая этот тезис, Парменид приходит к концепции бытия, которая кажется противоречащей всему нашему опыту: истинное бытие едино, неизменно, неделимо, неподвижно, самотождественно. Все, что мы воспринимаем как изменение, движение, множественность – не более чем иллюзия, «мнение» (δόξα), в противоположность истинному «знанию» (ἐπιστήμη) о неизменной природе бытия.
Парадоксальность выводов Парменида стимулировала развитие онтологической мысли. Его ученик Зенон Элейский (ок. 490—430 до н.э.) разработал серию знаменитых апорий (парадоксов), призванных логически доказать невозможность движения и множественности. Апории Зенона – «Ахиллес и черепаха», «Дихотомия», «Стрела», «Стадион» – до сих пор остаются предметом философского и математического анализа, демонстрируя сложность согласования нашего интуитивного понимания пространства, времени и движения с требованиями строгой логики.
Значение Элейской школы для онтологии трудно переоценить. Парменид впервые ясно сформулировал проблему бытия как такового, отделив его от множественности эмпирических явлений. Он первым применил строгие логические принципы к анализу бытия, показав, что требования логической последовательности могут привести к выводам, противоречащим непосредственному опыту. Тем самым он заложил основу для всей последующей рациональной онтологии, которая стремится постичь истинную природу реальности за видимостью явлений.
Противостояние онтологических концепций Гераклита и Парменида – поток становления против неизменного бытия – создало продуктивное напряжение, которое стимулировало дальнейшее развитие философской мысли. Платон и Аристотель, два величайших онтолога античности, будут разрабатывать свои системы в значительной степени как попытки разрешить эту фундаментальную антиномию бытия.
2.3. Платон и его идеалистическая онтология
Онтологическая концепция Платона (427—347 до н.э.) представляет собой грандиозную попытку синтеза предшествующих философских традиций и одновременно радикальный прорыв к новому пониманию бытия. Стремясь преодолеть противоречие между гераклитовским потоком становления и парменидовской неизменностью бытия, Платон создал дуалистическую онтологию, разделив реальность на два уровня: мир идей (эйдосов) и мир чувственных вещей.
Теория идей (эйдосов) как истинного бытия
Центральным элементом платоновской онтологии является учение об идеях или формах (др.-греч. εἶδος, ἰδέα – «вид», «образ», «форма»). Идеи в понимании Платона – это не субъективные мысли или представления, а объективно существующие сущности, которые представляют собой истинное, непреходящее бытие. Каждая идея – это идеальный прообраз, парадигма соответствующего класса вещей или качеств: существует идея Прекрасного, идея Справедливости, идея Человека, идея Стола и т. д.
Идеи обладают рядом фундаментальных онтологических характеристик:
– Неизменность и вечность. В отличие от чувственных вещей, которые возникают и исчезают, трансформируются и распадаются, идеи существуют вне времени, не подвержены изменениям, сохраняя свою идентичность.
– Единство и самотождественность. Каждая идея – это абсолютное единство, не содержащее внутри себя никакой множественности или разделения. Идея Прекрасного, например, не может быть прекрасной в одном отношении и не-прекрасной в другом – она есть само Прекрасное как таковое.
– Умопостигаемость. Идеи не воспринимаются органами чувств, но могут быть постигнуты только разумом. Они представляют собой умопостигаемую (νοητός) реальность, в отличие от чувственно воспринимаемого (αἰσθητός) мира вещей.
– Истинность и полнота бытия. Идеи обладают полнотой бытия, они «действительно существуют» (ὄντως ὄν), в то время как чувственные вещи находятся в промежуточном онтологическом статусе между бытием и небытием. Они не обладают истинным бытием, поскольку постоянно изменяются, но и не являются абсолютным небытием, поскольку все же обладают некоторой степенью реальности.
Постулирование мира идей как истинного бытия позволило Платону примирить онтологические интуиции Парменида и Гераклита. Неизменное, единое бытие, которое искал Парменид, существует, но не в нашем чувственном мире, а в трансцендентной сфере идей. Непрерывный поток становления, на котором настаивал Гераклит, также реален, но характеризует лишь мир чувственных вещей, который онтологически вторичен по отношению к миру идей.
Иерархия бытия: от идеи Блага к материальному миру
Мир идей в онтологии Платона не представляет собой аморфное скопление равноправных сущностей. Напротив, он организован в строгую иерархическую структуру, на вершине которой находится идея Блага (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα). В «Государстве» Платон описывает идею Блага как «то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать». Благо – это не просто высшая из идей, но принцип, который делает возможным существование и познаваемость всех остальных идей.
Платон сравнивает идею Блага с Солнцем: как Солнце дает вещам не только возможность быть видимыми, но и самое их существование, рост и питание, так и Благо дает идеям не только познаваемость, но и «бытие и существенность». Это удивительно глубокая метафора, которая связывает онтологию (учение о бытии) с эпистемологией (теорией познания) и аксиологией (учением о ценностях), предполагая, что истина, бытие и благо в конечном счете едины.
Ниже идеи Блага в иерархии бытия располагаются другие «высшие» идеи – такие как Истина, Красота, Справедливость – которые часто называются «трансценденталиями», поскольку они пронизывают все бытие и не ограничены какой-либо отдельной областью реальности. Далее следуют более специфические идеи – математические объекты (числа, геометрические фигуры), которые занимают промежуточное положение между трансценденталиями и идеями конкретных вещей, и, наконец, идеи классов природных и искусственных объектов.
На нижних ступенях иерархии бытия находится чувственный мир – сфера постоянного изменения и становления. Этот мир в онтологии Платона имеет двойственную природу: с одной стороны, в нем есть определенный порядок и рациональность, которые он получает от причастности к миру идей; с другой стороны, в нем присутствует элемент хаоса, неопределенности, сопротивления форме, который Платон иногда обозначает как «необходимость» (ἀνάγκη) или «пространство» (χώρα).
В своём позднем диалоге «Тимей» Платон представляет космогоническую версию своей онтологии, описывая, как демиург (божественный ремесленник) создал видимый космос, взирая на вечные идеи как на образцы и придавая форму бесформенной материи. Эта мифологическая картина, не предназначенная для буквального понимания, метафорически выражает фундаментальную онтологическую интуицию Платона: материальный мир – это несовершенная, но все же узнаваемая копия идеального мира, и его структура в конечном счете определяется структурой идей.
«Миф о пещере» как иллюстрация онтологических взглядов
Одной из самых известных и влиятельных иллюстраций платоновской онтологии является «миф о пещере», представленный в седьмой книге «Государства». Этот мысленный эксперимент не только иллюстрирует основные положения платоновской теории идей, но и показывает, как онтология связана с эпистемологией и этикой.
Платон предлагает нам представить людей, которые с детства прикованы в пещере так, что могут видеть только тени предметов, проецируемые на стену напротив них. Эти узники принимают тени за единственную реальность, не подозревая о существовании самих предметов, отбрасывающих тени, и тем более о мире за пределами пещеры, освещенном солнцем.
В этой аллегории пещера представляет собой чувственный мир, тени на стене – чувственно воспринимаемые вещи, а солнечный свет снаружи – истинное бытие мира идей, освещаемое идеей Блага. Платон описывает возможный путь освобождения одного из узников: болезненный подъем из глубины пещеры, постепенное привыкание глаз к свету, созерцание сначала теней и отражений в воде, затем самих предметов и, наконец, солнца. Этот путь символизирует диалектический метод философии, который позволяет постепенно подниматься от мнения (δόξα) к знанию (ἐπιστήμη), от иллюзорных теней чувственного мира к созерцанию идей и, в конечном счете, идеи Блага.
Особенно показательно в этом мифе описание возвращения освобожденного узника обратно в пещеру. В полумраке пещеры, после яркого солнечного света, он будет временно ослеплен и не сможет различать тени так хорошо, как прежде. Другие узники, видя его замешательство, решат, что путешествие наверх повредило его зрение, и еще больше утвердятся в мысли, что не следует пытаться покинуть пещеру. Более того, если освобожденный узник попытается освободить других и повести их к свету, они могут даже убить его – намек на судьбу Сократа, учителя Платона, казненного афинянами.
Этот миф имеет несколько уровней прочтения, но с точки зрения онтологии он иллюстрирует фундаментальный тезис Платона: чувственный мир – это не подлинная реальность, а лишь тень, бледное отражение истинного бытия идей. Люди, живущие исключительно в мире чувственного опыта, подобны узникам пещеры: они принимают за истинную реальность то, что является лишь проекцией, тенью высшей реальности. Только философия, как путь восхождения к созерцанию идей, может вывести человека из этого онтологического плена к истинному бытию.
Проблема соотношения мира идей и мира вещей
Одним из наиболее сложных и дискуссионных аспектов платоновской онтологии является вопрос о характере связи между миром идей и миром чувственных вещей. Каким образом трансцендентные, вечные, неизменные идеи соотносятся с изменчивыми, множественными, чувственно воспринимаемыми вещами?
Платон предлагает несколько моделей для описания этого отношения:
– Причастность (μέθεξις, methexis). Чувственные вещи «причастны» соответствующим идеям, «участвуют» в них. Красивая вещь причастна идее Красоты, справедливый поступок – идее Справедливости. Эта метафора указывает на асимметричность отношения: идея не зависит от причастных к ней вещей, но вещи получают свои определенные качества благодаря причастности к идеям.
– Подражание (μίμησις, mimesis). Чувственные вещи «подражают» идеям, являются их имитациями или копиями. Эта метафора подчеркивает несовершенство чувственного мира по сравнению с миром идей: копия всегда уступает оригиналу, имитация никогда не достигает совершенства образца.
– Присутствие (παρουσία, parousia). Идея в каком-то смысле «присутствует» в причастных ей вещах. Эта метафора указывает на то, что идея не просто внешний образец, но активно формирующее начало, которое делает вещь тем, что она есть.
Все эти метафоры указывают на одну и ту же фундаментальную интуицию Платона: чувственные вещи не обладают самостоятельным бытием, их существование и определенность производны от идей. В диалоге «Федон» Платон устами Сократа объясняет, что вещь является прекрасной не в силу какого-то присущего ей качества, а только потому, что она причастна идее Прекрасного. Это значит, что в онтологии Платона идеи являются не просто «образцами» или «прототипами», но, что гораздо важнее, причинами существования вещей в их определенности.
Однако эта концепция порождает серьезные теоретические трудности, которые были выявлены еще при жизни Платона и впоследствии систематизированы Аристотелем в его критике теории идей. Наиболее известная из этих трудностей – «аргумент третьего человека», впервые сформулированный в платоновском диалоге «Парменид». Если для объяснения сходства между множеством людей мы постулируем существование идеи Человека, то для объяснения сходства между этими людьми и идеей Человека нам потребуется «третий человек» – еще одна идея, и так до бесконечности. Этот регресс показывает, что отношение «причастности» или «подражания» между идеями и вещами нуждается в дополнительном прояснении.
Поздний Платон был осведомлен об этих трудностях и пытался их преодолеть. В диалогах «Софист» и «Парменид» он пересматривает некоторые аспекты своей теории идей, вводя более сложную структуру отношений между идеями и допуская возможность частичного «неподлинного» бытия. Эти модификации не означали отказа от основной интуиции о превосходстве умопостигаемого мира над чувственным, но указывали на сложность полной артикуляции отношений между различными уровнями бытия.
Онтология Платона оказала колоссальное влияние на всю последующую философскую мысль. Неоплатоники, христианские мыслители, представители немецкого идеализма и многие другие философские традиции развивали, модифицировали и переосмысляли платоновское учение об идеях. Даже те, кто, подобно Аристотелю, критиковали Платона, делали это в рамках концептуального поля, очерченного его мыслью. Платоновская интуиция о существовании уровней реальности, различающихся по степени бытийной полноты и подлинности, навсегда изменила онтологическое мышление, создав возможность говорить о бытии не как о плоской однородной реальности, а как о многомерной структуре, включающей уровни и градации.