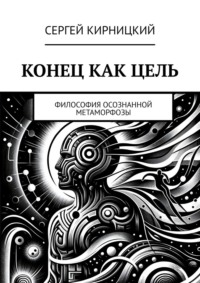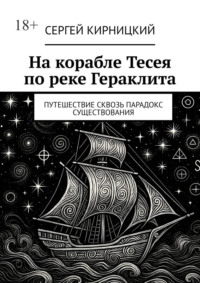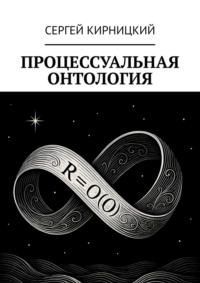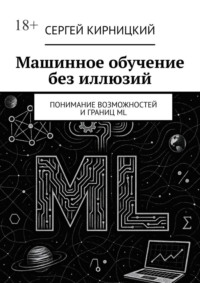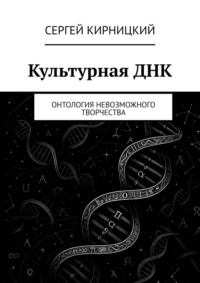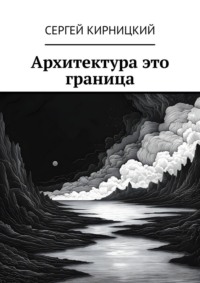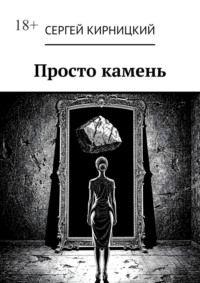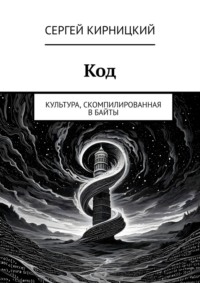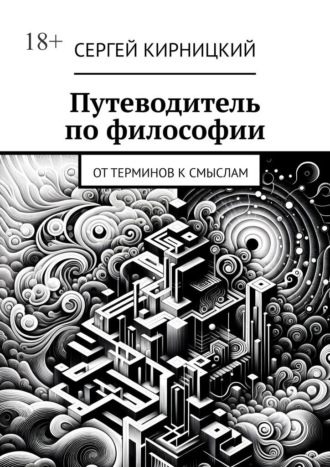
Полная версия
Путеводитель по философии. От терминов к смыслам
Тем не менее, это противостояние имело огромное значение для развития эпистемологии. Оно поставило ключевые вопросы о соотношении рационального и эмпирического в познании, о роли врожденных структур и приобретенного опыта, о возможности априорного знания и обоснованности индукции. Эти вопросы не утратили актуальности и сегодня, хотя они формулируются в новых терминах: нативизм vs конструктивизм в когнитивных науках, априоризм vs натурализм в современной эпистемологии.
Истинное преодоление ограниченности как рационализма, так и эмпиризма было осуществлено Иммануилом Кантом, чей «коперниканский переворот» в эпистемологии открыл новую перспективу понимания природы познания. Но прежде чем обратиться к кантовской трансцендентальной философии, важно осознать, что как рационализм, так и эмпиризм схватывают существенные, хотя и односторонние аспекты познавательного процесса. Рационализм прав, подчеркивая активную роль субъекта в познании и наличие структур, не выводимых непосредственно из опыта. Эмпиризм прав, настаивая на опытной основе всякого содержательного знания и критикуя претензии разума на познание того, что выходит за пределы возможного опыта.
Это диалектическое напряжение между разумом и опытом, между априорным и апостериорным, между необходимостью и случайностью станет движущей силой развития эпистемологии от Канта до наших дней.
3.3. Кант и его «коперниканский переворот» в эпистемологии
К концу XVIII века эпистемология оказалась в состоянии глубокого кризиса. Рационализм, стремясь обеспечить абсолютную достоверность познания, уходил в априорные построения, все более отрывавшиеся от эмпирической реальности. Эмпиризм, настаивая на опытном происхождении всех знаний, приводил к скептицизму относительно возможности необходимых и универсальных истин, включая законы природы и принципы математики. Центральной фигурой, преодолевшей этот тупик, стал Иммануил Кант (1724—1804), чья трансцендентальная философия представляет собой не просто компромисс между рационализмом и эмпиризмом, но принципиально новый подход к проблеме познания.
Трансцендентальный поворот: изменение перспективы
В предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума» (1787) Кант сравнивает свою философскую революцию с коперниканским переворотом в астрономии. Подобно тому как Коперник, не сумев объяснить движение небесных тел в предположении, что они вращаются вокруг наблюдателя, предположил, что это наблюдатель вращается вокруг своей оси, Кант предлагает радикально изменить перспективу в эпистемологии:
«До сих пор считали, что всякое наше познание должно сообразоваться с предметами. Но все попытки через понятия что-то априорно установить относительно предметов… кончались неудачей. Поэтому следовало бы попытаться выяснить, не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием…»
Этот «коперниканский переворот» означает перенесение центра тяжести в отношении познания и его предмета. Не познание сообразуется с предметами, а предметы, как они нам являются, сообразуются с априорными структурами нашего познания. Это не означает, что мир создается нашим сознанием, как в субъективном идеализме; скорее, речь идет о том, что формы, в которых нам дан мир, определяются нашими познавательными способностями.
Кант вводит фундаментальное различие между вещами, как они существуют сами по себе (вещи в себе, Ding an sich), и вещами, как они являются нам в опыте (явления, феномены). О вещах в себе мы не можем иметь знания, поскольку любое познание уже опосредовано формами нашей чувственности и рассудка. Это не означает агностицизма в обычном смысле; скорее, Кант указывает на принципиальные границы познания, которые определяются самой его структурой.
Кантовская эпистемология называется «трансцендентальной» потому, что она исследует не эмпирические факты познания, а его априорные условия возможности. Трансцендентальное исследование направлено не на знание о предметах, а на «наш способ познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori». Трансцендентальный метод, таким образом, аналитичен: он отталкивается от факта существования определенных форм познания (например, математики или естествознания) и восходит к условиям, делающим их возможными.
Априорные формы чувственности и рассудка
Кант выделяет две основные познавательные способности: чувственность (Sinnlichkeit) и рассудок (Verstand). Чувственность – это способность получать представления путем воздействия предметов на органы чувств. Рассудок – это способность мыслить предметы чувственного созерцания посредством понятий.
Чувственность имеет априорные формы: пространство и время. Они не выводятся из опыта, но являются условиями возможности любого внешнего (пространство) или внутреннего (время) опыта. Пространство и время – не свойства вещей в себе, а формы нашего восприятия. Именно поэтому математика, изучающая структуры пространства и времени, может быть априорной и в то же время применимой к эмпирическому миру: математические истины описывают не свойства вещей в себе, а необходимые структуры нашего опыта.
Рассудок также имеет априорные формы – категории, которые Кант систематически выводит из таблицы логических функций суждения. Всего он выделяет двенадцать категорий, разделенных на четыре группы:
– Категории количества: единство, множество, цельность.
– Категории качества: реальность, отрицание, ограничение.
– Категории отношения: субстанция и акциденция, причина и следствие, взаимодействие.
– Категории модальности: возможность-невозможность, существование-несуществование, необходимость-случайность.
Категории – это чистые понятия рассудка, применяемые к данным чувственности для формирования суждений о предметах опыта. Они не относятся к вещам в себе, но определяют форму, в которой предметы могут быть мыслимы.
Кант показывает, как применение категорий к чувственным данным порождает основоположения чистого рассудка: аксиомы созерцания, антиципации восприятия, аналогии опыта и постулаты эмпирического мышления. Эти основоположения представляют собой наиболее общие законы природы, выражающие не эмпирические регулярности, а необходимые условия возможности любого опыта.
Трансцендентальное единство апперцепции
Центральное место в кантовской эпистемологии занимает понятие трансцендентального единства апперцепции – самосознания, сопровождающего все наши представления. «Я мыслю» должно иметь возможность сопровождать все мои представления, иначе они не могли бы принадлежать мне. Это не эмпирическое «я», данное в потоке внутреннего опыта, а чистое, трансцендентальное «я», которое является условием возможности любого опыта.
Трансцендентальное единство апперцепции обеспечивает синтез многообразия чувственных данных в единое представление о предмете. Категории рассудка применяются к чувственным данным именно благодаря этому единству самосознания. Таким образом, предмет опыта конституируется не пассивным восприятием, а активной деятельностью синтеза, осуществляемой рассудком под руководством трансцендентального единства апперцепции.
Синтез рационализма и эмпиризма
Кантовская эпистемология представляет собой синтез рационализма и эмпиризма, преодолевающий ограниченность каждого из них. С рационализмом она разделяет признание активной роли субъекта в познании и существования априорных структур, не выводимых из опыта. С эмпиризмом – убеждение, что содержательное знание возможно только в рамках опыта, и критику претензий разума на трансцендентное познание.
Кант формулирует свою позицию в известном утверждении: «Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы». Понятия рассудка без чувственного созерцания остаются пустыми логическими формами; данные чувственности без понятийной обработки – лишь хаотическое многообразие, не складывающееся в познание предмета. Подлинное познание возникает только в синтезе чувственного и рационального, в применении категорий рассудка к материалу, данному в созерцании.
Этот синтез позволяет Канту решить проблему, поставленную юмовским скептицизмом: как возможны синтетические суждения a priori – суждения, которые расширяют наше знание (а не просто разъясняют понятия, как аналитические суждения) и в то же время имеют необходимый и универсальный характер (в отличие от эмпирических суждений). Категории рассудка, применяемые к априорным формам чувственности, позволяют формулировать такие суждения, которые являются одновременно синтетическими и априорными. Это объясняет возможность математики, чистого естествознания и (в ограниченном смысле) метафизики.
Влияние и значение кантовской эпистемологии
Влияние Канта на последующее развитие философии невозможно переоценить. Его трансцендентальная эпистемология задала рамку, внутри которой развивалась вся последующая мысль – либо продолжая и развивая кантовские идеи, либо вступая с ними в полемику.
Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг, Гегель) развивал кантовские идеи об активности субъекта в познании, но отвергал понятие вещи в себе как непознаваемой реальности. Неокантианство (Коген, Наторп, Риккерт, Виндельбанд) вернулось к кантовской проблематике условий возможности науки, но переинтерпретировало ее в духе методологии наук. Феноменология Гуссерля, несмотря на критику психологизма, унаследовала от Канта интерес к структурам сознания, конституирующим предметность. Аналитическая философия, особенно логический эмпиризм, трансформировала кантовское различение аналитического и синтетического в основной инструмент анализа языка науки.
Даже современные когнитивные науки, исследующие врожденные когнитивные структуры и их роль в формировании восприятия и мышления, можно рассматривать как эмпирическое развитие кантовской идеи априорных форм познания.
Значение кантовской эпистемологии не исчерпывается ее историческим влиянием. Она продолжает задавать концептуальную рамку для современных дискуссий о природе познания, соотношении субъективного и объективного, границах научного знания. «Коперниканский переворот» Канта остается одним из ключевых моментов в истории философской мысли, открывшим новую перспективу понимания человеческого познания и его отношения к миру.
3.4. Современные эпистемологические теории
После Канта эпистемология развивалась в различных направлениях, реагируя на изменения в научной картине мира, социокультурном контексте и самом понимании задач философского исследования. Современный эпистемологический ландшафт характеризуется множественностью подходов, которые акцентируют различные аспекты познания и предлагают различные ответы на классические эпистемологические вопросы. Рассмотрим наиболее влиятельные из этих подходов.
Прагматизм и инструментализм
Прагматизм, возникший в США в конце XIX – начале XX веков в работах Чарльза Сандерса Пирса (1839—1914), Уильяма Джеймса (1842—1910) и Джона Дьюи (1859—1952), предлагает радикально новый подход к пониманию познания и истины. Центральное место в прагматистской эпистемологии занимает идея о том, что познание должно рассматриваться не как пассивное отражение реальности, а как активный процесс взаимодействия с ней, направленный на решение практических проблем.
Чарльз Пирс, считающийся основателем прагматизма, сформулировал «прагматическое правило», согласно которому значение понятия заключается в сумме практических последствий, которые могут быть выведены из него. Применяя это правило к понятию истины, Пирс пришел к концепции истины как «предельного мнения», к которому в конечном счете пришло бы научное сообщество при неограниченном исследовании. Эта концепция сочетает элементы корреспондентной и консенсусной теорий истины, подчеркивая как соответствие реальности, так и ролевой интерсубъективного согласия.
Уильям Джеймс развил прагматическую теорию истины в более радикальном направлении, утверждая, что истинность идеи определяется ее «наличной ценностью», ее способностью служить надежным руководством в практической жизни. «Истина – это то, что работает,» – таков лозунг джеймсовского прагматизма. Это не означает релятивизма или субъективизма; скорее, Джеймс подчеркивает, что проверка истинности происходит в конкретном опыте, а не в абстрактном сопоставлении идеи с «реальностью в себе».
Джон Дьюи, развивая идеи Пирса и Джеймса, создал «инструменталистскую» версию прагматизма, рассматривающую идеи и теории как инструменты адаптации к среде и решения проблем. В своей «экспериментальной логике» Дьюи анализирует познание как циклический процесс, включающий обнаружение проблемы, формулировку гипотезы, её проверку и оценку результатов. Познание, согласно Дьюи, всегда начинается с проблематичной ситуации, с нарушения равновесия в опыте, и направлено на восстановление этого равновесия путем трансформации ситуации.
Прагматизм оказал глубокое влияние на современную эпистемологию, особенно на натурализованные подходы, подчеркивающие адаптивную функцию познания и его укорененность в практической деятельности. Он также предвосхитил многие идеи современной философии науки, особенно связанные с ролью научного сообщества в формировании и проверке знания.
Логический позитивизм и проблема верификации
Логический позитивизм (или логический эмпиризм), представленный в работах членов Венского кружка (Мориц Шлик, Рудольф Карнап, Отто Нейрат) и их сторонников, возник в 1920-30-х годах как радикальное переосмысление задач и методов философии в свете достижений современной логики и науки. Центральным для логического позитивизма было стремление к преодолению «метафизики» и созданию философии как строгой науки, опирающейся на логический анализ языка и эмпирическую проверяемость утверждений.
Эпистемологические взгляды логических позитивистов основывались на строгом различении аналитических и синтетических суждений. Аналитические суждения (включая утверждения логики и математики) истинны в силу значений входящих в них терминов и не несут информации о мире. Синтетические суждения несут эмпирическую информацию и должны быть проверяемы опытом.
Ключевым элементом позитивистской эпистемологии стал принцип верификации, согласно которому осмысленность (и, следовательно, познавательная ценность) синтетического утверждения определяется возможностью его эмпирической проверки. В ранних формулировках этого принципа требовалась «полная верификация» – сведение утверждения к совокупности элементарных предложений наблюдения («протокольных предложений»). Позднее, столкнувшись с трудностями, связанными с верификацией общих законов и теоретических утверждений, позитивисты смягчили этот критерий, говоря о «верифицируемости в принципе» или «частичной верифицируемости».
Логические позитивисты стремились реконструировать научное знание как логически упорядоченную систему, в которой теоретические термины определяются через наблюдаемые, а утверждения науки сводятся к утверждениям о наблюдаемых явлениях. Эта программа встретила серьезные трудности, связанные с невозможностью полного определения теоретических терминов через наблюдаемые, с теоретической нагруженностью языка наблюдения и с проблемой обоснования индукции.
Несмотря на эти трудности, логический позитивизм оказал огромное влияние на развитие аналитической философии и философии науки, сформулировав проблемы, которые остаются центральными для эпистемологии до сих пор: соотношение теории и наблюдения, структура научного объяснения, природа теоретических терминов, критерии научности и осмысленности.
Критический рационализм Карла Поппера
Карл Поппер (1902—1994) начал свою философскую карьеру в близком контакте с Венским кружком, но быстро занял критическую позицию по отношению к позитивистской программе. В своей «Логике научного открытия» (1934) и последующих работах он развил альтернативный подход к эпистемологии и философии науки, получивший название «критического рационализма».
Центральное место в эпистемологии Поппера занимает критика индуктивизма – представления о том, что научное знание основывается на индуктивных обобщениях эмпирических данных. Согласно Попперу, индукция логически необоснованна, поскольку никакое конечное количество наблюдений не может гарантировать истинность общего утверждения. Вместо индукции Поппер предлагает гипотетико-дедуктивную модель научного познания: ученые выдвигают смелые гипотезы, из которых дедуктивно выводят эмпирически проверяемые следствия.
Попперовский «критерий демаркации» между наукой и псевдонаукой основан не на верифицируемости, а на фальсифицируемости утверждений. Научные гипотезы, согласно Попперу, должны быть принципиально опровержимы опытом; они должны запрещать определенные события, предсказывая, что они не произойдут. Если такие события все же происходят, гипотеза считается опровергнутой. Чем больше потенциальных фальсификаторов имеет теория, тем она более информативна и, следовательно, более научна.
Эпистемологический оптимизм Поппера основан на идее, что, хотя мы никогда не можем доказать истинность научных теорий, мы можем приближаться к истине через критическую проверку и отбрасывание ложных теорий. Его концепция «правдоподобия» (verisimilitude) призвана формализовать интуитивное представление о том, что одна теория может быть «ближе к истине», чем другая, даже если обе они, строго говоря, ложны.
В своих поздних работах Поппер развил эволюционную эпистемологию, рассматривающую рост научного знания по аналогии с биологической эволюцией: как естественный отбор отбраковывает неприспособленные организмы, так экспериментальная проверка отбраковывает ложные теории. Он также разработал концепцию «трех миров» – мира физических объектов, мира субъективных состояний сознания и «третьего мира» объективного содержания мышления (теорий, аргументов, проблем), который обладает относительной автономией от первых двух.
Критический рационализм Поппера представляет собой попытку сохранить рационалистическое понимание науки, избегая при этом догматизма и фундаментализма. Его влияние на философию науки и эпистемологию XX века трудно переоценить, хотя многие его идеи были впоследствии подвергнуты критике и модификации.
Парадигмальный подход Томаса Куна
Если логический позитивизм и критический рационализм представляли нормативные подходы к эпистемологии, пытаясь реконструировать логику научного познания, то работа Томаса Куна «Структура научных революций» (1962) ознаменовала исторический поворот в философии науки, акцентирующий внимание на реальной практике научных сообществ.
Согласно Куну, развитие науки не представляет собой непрерывный кумулятивный процесс накопления знаний. Оно проходит через чередование периодов «нормальной науки», когда исследователи работают в рамках общепринятой парадигмы, и научных революций, когда одна парадигма заменяется другой. Под парадигмой Кун понимает набор теоретических положений, методологических правил и образцов решения проблем, которые определяют научную практику в определенный период.
В периоды нормальной науки ученые работают над решением головоломок (puzzles) внутри установленной парадигмы, уточняя ее положения и расширяя ее применение. Научная революция происходит, когда накопившиеся аномалии (факты, не объяснимые в рамках господствующей парадигмы) приводят к кризису, который разрешается принятием новой парадигмы. Ключевой момент в концепции Куна – это несоизмеримость парадигм: они не просто по-разному описывают мир, но фактически определяют, что именно ученые «видят» и какие вопросы они считают значимыми.
Эпистемологические следствия концепции Куна глубоки и противоречивы. Если научные революции представляют собой «сдвиги гештальта», а не логически обоснованные переходы, если выбор между парадигмами не может быть полностью рациональным из-за их несоизмеримости, то традиционные представления о научной рациональности и объективности оказываются под вопросом. Хотя сам Кун не был релятивистом и считал, что наука действительно прогрессирует в своей способности решать головоломки, его работа была воспринята как аргумент в пользу социальной обусловленности научного знания и релятивизации истины.
Значение куновского подхода для эпистемологии заключается в привлечении внимания к социально-историческим аспектам познания, к роли научного сообщества в формировании и валидации знания. После Куна стало невозможно игнорировать социальный характер познавательной деятельности и влияние исторически обусловленных концептуальных схем на восприятие и интерпретацию данных.
Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда
Если Кун показал историческую изменчивость и социальную обусловленность научной рациональности, то Пол Фейерабенд (1924—1994) пошел еще дальше, отрицая существование универсального научного метода и возможность рационального выбора между конкурирующими теориями. В своей работе «Против метода» (1975) он выдвинул концепцию «эпистемологического анархизма», согласно которой не существует единых методологических правил, которым неизменно следуют успешные ученые.
Фейерабенд аргументирует свою позицию анализом истории науки, показывая, что многие важные научные достижения были бы невозможны, если бы ученые строго следовали методологическим правилам своего времени. Например, Галилей защищал гелиоцентрическую систему Коперника, несмотря на то, что она противоречила доминирующей теории и наблюдаемым фактам. Он использовал риторические приемы, апеллировал к новым, еще не полностью освоенным инструментам (телескоп), и, по выражению Фейерабенда, действовал как «искусный пропагандист».
Единственное методологическое правило, которое признает Фейерабенд, – это «все дозволено» (anything goes). Это не призыв к произволу, а признание многообразия методов, которые могут быть эффективными в различных контекстах. Наука, согласно Фейерабенду, развивается через пролиферацию (размножение) конкурирующих теорий, через нарушение методологических правил, через использование различных концептуальных ресурсов, включая «ненаучные» (мифы, метафизика, альтернативные традиции).
Эпистемологические выводы Фейерабенда радикальны: наука не обладает специальным эпистемическим статусом, отличающим ее от других форм познания; выбор между теориями в конечном счете определяется не только логикой и опытом, но и социальными, эстетическими, политическими факторами; нет общих критериев прогресса, применимых ко всем областям исследования.
Эпистемологический анархизм Фейерабенда вызвал много критики, но он оказал значительное влияние на социологию науки и социальные исследования технологий, а также на постмодернистскую критику объективизма и сциентизма. Его подход подчеркивает многомерность познавательного процесса и невозможность его полной рационализации.
Социальная эпистемология
Социальная эпистемология представляет собой относительно новую область эпистемологических исследований, фокусирующуюся на социальных измерениях познания. В отличие от традиционной эпистемологии, центрированной на индивидуальном познающем субъекте, социальная эпистемология исследует познание как коллективную деятельность, осуществляемую сообществами и институтами.
Современная социальная эпистемология развивается в двух основных направлениях. «Классическая» социальная эпистемология, представленная работами Элвина Голдмана, Дэвида Коади и других, сохраняет нормативную ориентацию традиционной эпистемологии, но расширяет ее предмет, включая социальные практики и институты. В этом подходе центральным остается вопрос о том, какие социальные формы организации познания способствуют достижению истины.
«Радикальная» социальная эпистемология, связанная с социологией научного знания (Дэвид Блур, Барри Барнс) и социальным конструкционизмом, подвергает критике само понятие объективного знания, рассматривая знание как социальный конструкт, отражающий интересы, ценности и властные отношения в обществе.
Среди ключевых вопросов социальной эпистемологии – проблема свидетельства (как мы обосновываем наше доверие к информации, полученной от других), эпистемическая роль социальных институтов (от образовательных систем до научных сообществ), влияние технологий на социальное производство знания, проблемы экспертизы и разделения когнитивного труда.
Социальная эпистемология играет важную роль в современных дебатах о статусе научного знания, об эпистемических аспектах демократии, о влиянии информационных технологий на познавательные практики. Она предлагает концептуальные инструменты для анализа таких феноменов, как «эхо-камеры» в социальных медиа, «эпистемическая несправедливость» (когда определенные группы систематически лишаются возможности вносить вклад в коллективное познание), «постправда» и кризис доверия к экспертам.