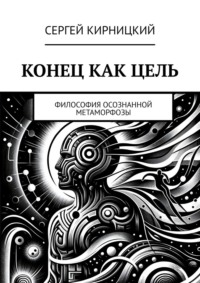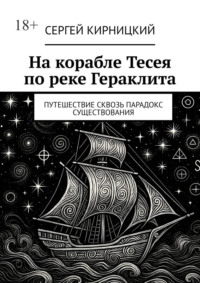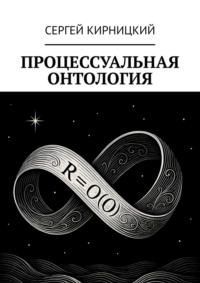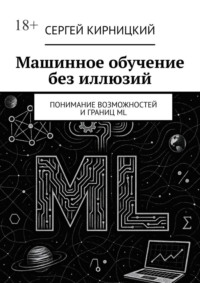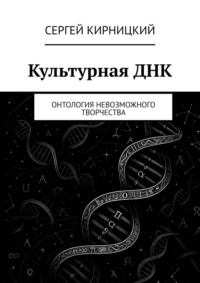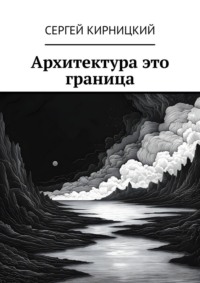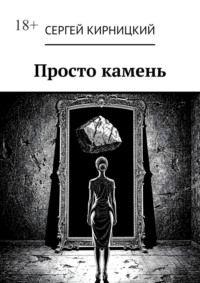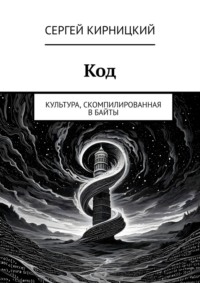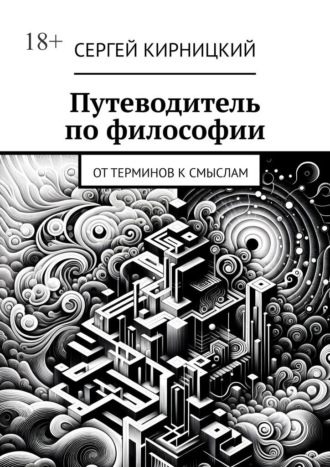
Полная версия
Путеводитель по философии. От терминов к смыслам
Когнитивное измерение: Удивление как столкновение с аномалией, несоответствием между ожиданием и реальностью, между общепринятым мнением и критическим исследованием. Это то, что Сократ вызывал своими вопросами, приводя собеседников в состояние апории – интеллектуального тупика, когда прежние представления разрушены, а новые еще не созданы.
Этическое измерение: Удивление перед моральными феноменами – способностью человека жертвовать собой ради других, перед безусловностью морального требования, перед самой возможностью различения добра и зла. Как писал Кант: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
Эстетическое измерение: Удивление перед красотой, гармонией, величием природы и произведений искусства. Это измерение особенно важно для эстетической теории Канта, в которой эстетическое суждение вызывает особый тип удовольствия, связанный с игрой познавательных способностей.
Удивление как философский метод имеет несколько аспектов:
– Проблематизация очевидного: Философ ставит под вопрос то, что обычно принимается как само собой разумеющееся. «Что есть знание?», «Что есть справедливость?», «Что значит существовать?» – эти вопросы возникают из удивления перед тем, что казалось ясным.
– Радикальное вопрошание: Удивление ведет к вопросам, которые идут к корням (лат. radix) явлений, к их сущности и первоосновам. Философское удивление не удовлетворяется частичными или поверхностными объяснениями.
– Остранение. Термин, введенный русским литературоведом Виктором Шкловским, означает прием, позволяющий увидеть привычное как странное, необычное. Философское удивление создает дистанцию между нами и миром, позволяя увидеть реальность не через призму привычки, а в ее первозданной странности.
– Открытость возможностям: Удивление разрушает догматическую уверенность и открывает пространство для различных интерпретаций и подходов. Оно создает то, что феноменологи называют эпохе – приостановку естественной установки, воздержание от поспешных суждений.
Удивление стоит у истоков философии не только исторически, но и методологически: каждый акт философской рефлексии начинается с удивления перед тем, что прежде казалось понятным. В этом смысле удивление – это не просто эмоциональный импульс, запускающий философское исследование, но постоянный элемент философского метода, позволяющий снова и снова возвращаться к фундаментальным вопросам, видя их каждый раз в новом свете.
Как писал Витгенштейн: «Философские проблемы возникают, когда язык отправляется на каникулы». Это замечание указывает на то, что философское удивление часто связано с осознанием ограниченности и проблематичности языка, которым мы пытаемся описать мир. Удивление перед языком и его отношением к реальности – одна из центральных тем философии XX века, от лингвистического поворота аналитической философии до деконструкции Деррида.
Сомнение как философский метод
Если удивление можно считать начальным импульсом философского исследования, то сомнение представляет собой его методологический принцип. Философское сомнение – это не случайная неуверенность, но систематическая процедура проверки утверждений на предмет их обоснованности и достоверности. Наиболее радикальную формулировку этот принцип получил в методическом сомнении Рене Декарта, но его корни уходят в античную традицию, а последствия прослеживаются до современной философии.
Античные истоки философского сомнения
Уже Сократ, используя свой знаменитый метод элегхоса (опровержения), систематически подвергал сомнению представления своих собеседников, демонстрируя их внутреннюю противоречивость или необоснованность. Его знаменитое «я знаю, что ничего не знаю» выражает не пессимистический эпистемологический вывод, но позитивную методологическую установку: признание собственного незнания открывает путь к поиску истины.
Более радикальную форму сомнение приняло у скептиков – школы, основанной Пирроном из Элиды (360—270 до н.э.) и развитой Секстом Эмпириком (II – III вв. н.э.). Скептики разработали серию тропов – аргументов, показывающих, почему следует воздерживаться от суждений о природе вещей. Например, относительность чувственного восприятия (одна и та же вода кажется теплой для замерзшей руки и холодной для горячей), культурное разнообразие норм и мнений, логическая регрессия в обосновании и др.
Однако в отличие от позднего картезианского сомнения, скептическое epoché (воздержание от суждения) не было методом достижения достоверного знания, но скорее практикой, ведущей к атараксии – душевному спокойствию, возникающему от освобождения от догматических мнений.
Методическое сомнение Декарта
Революционность подхода Декарта заключалась в том, что он превратил сомнение из скептического заключения в методологическое начало. В «Рассуждении о методе» (1637) и «Метафизических размышлениях» (1641) он предложил процедуру радикального сомнения как путь к достоверному знанию.
Декартовское сомнение имеет несколько ключевых особенностей:
– Методичность и систематичность. Сомнение применяется не хаотично, а по определенному плану, начиная с наименее очевидных утверждений и продвигаясь к тем, которые кажутся наиболее достоверными.
– Радикальность. Декарт подвергает сомнению не только отдельные утверждения, но целые классы знаний: чувственное восприятие, математические истины, само существование внешнего мира.
– Гиперболичность. Декарт использует мысленный эксперимент «злого гения» (позже трансформировавшийся в «мозг в чане» и «матрицу»), который может систематически обманывать нас относительно всего, даже математических истин.
– Конструктивность. Цель декартовского сомнения не скептический тупик, а поиск того, в чем невозможно усомниться, – несомненной основы для всего здания знания.
Результатом этой процедуры становится знаменитое cogito ergo sum – «я мыслю, следовательно, я существую». Даже если я сомневаюсь во всем, я не могу сомневаться в самом факте своего сомнения, а значит, и своего существования как мыслящего. Из этой несомненной истины Декарт выводит существование Бога, а затем и внешнего мира.
Сомнение в современной философии
Декартовское методическое сомнение оказало огромное влияние на последующую философию, хотя его конкретные выводы были подвергнуты критике. Эволюция метода сомнения в современной философии происходила по нескольким направлениям:
Феноменологическая редукция Эдмунда Гуссерля представляет собой трансформацию картезианского сомнения. Вместо вопроса «существует ли это?» феноменолог ставит вопрос «как это дано сознанию?». Гуссерлевское эпохе – это не отрицание существования мира, но «заключение в скобки» вопроса о его существовании для исследования чистых структур сознания.
Лингвистический анализ в традиции позднего Витгенштейна применяет сомнение к самому языку философских утверждений. Вместо вопроса «истинно ли это утверждение?» аналитический философ спрашивает: «имеет ли это утверждение смысл?», «как используются эти слова в обычном языке?», «не является ли эта проблема результатом языковой путаницы?».
Деконструкция Жака Деррида радикализирует сомнение, направляя его на метафизические основания западной философии – бинарные оппозиции (присутствие/отсутствие, речь/письмо, внутреннее/внешнее), которые структурируют наше мышление. Деконструктивное чтение выявляет внутренние напряжения и противоречия в тексте, показывая, как он подрывает собственные явные утверждения.
Критическая теория Франкфуртской школы применяет систематическое сомнение к социальным и идеологическим конструкциям, выявляя скрытые механизмы власти и подавления. Это сомнение имеет не только теоретическое, но и практическое, эмансипаторное измерение.
Методологические функции философского сомнения
Сомнение в современной философии выполняет несколько ключевых методологических функций:
– Критическая функция: Сомнение позволяет выявлять необоснованные предпосылки, догматические положения, скрытые противоречия в теориях и аргументах.
– Очистительная функция: Сомнение освобождает мышление от предрассудков, идеологических наслоений, некритически принятых мнений, создавая пространство для нового понимания.
– Диалектическая функция: Сомнение инициирует диалектическое движение мысли, где тезис, подвергнутый сомнению, порождает антитезис, а их противоречие ведет к синтезу на более высоком уровне понимания.
– Терапевтическая функция: Сомнение в традиции поздней аналитической философии (Витгенштейн) и некоторых континентальных направлений (экзистенциализм) рассматривается как терапия, освобождающая от концептуальной путаницы и экзистенциальной неаутентичности.
– Эвристическая функция: Сомнение открывает новые перспективы и подходы, стимулирует творческое мышление, позволяет увидеть проблему в неожиданном свете.
Философское сомнение радикально отличается от обыденного и патологического сомнения. В отличие от обыденного, оно не направлено на конкретные факты, но на фундаментальные основания знания и бытия. В отличие от патологического, оно методично, целенаправленно и продуктивно – не парализует мышление, но стимулирует его развитие.
В современной эпохе «пост-истины» и информационного хаоса философское сомнение приобретает новое значение как инструмент критического мышления, позволяющий ориентироваться в мире, где границы между фактом и мнением, истиной и ложью становятся все более размытыми.
Диалектический метод
Диалектический метод представляет собой один из древнейших и в то же время наиболее актуальных способов философского мышления. От Сократа и Платона через Гегеля до современных форм диалектики – этот метод эволюционировал, приобретая различные формы, но сохраняя сущностное ядро: понимание реальности и мышления через движение противоположностей.
Сократический диалог и платоновская диалектика
Истоки диалектического метода обнаруживаются в сократическом диалоге – форме философского исследования через вопросы и ответы. Сократ не излагал готовые истины, но вовлекал собеседника в совместный поиск, выявляя противоречия в его представлениях и двигаясь к более адекватному пониманию.
Платон, ученик Сократа, развил диалектику как метод восхождения от чувственного многообразия к единству идеи, от мнения (doxa) к знанию (episteme). В диалоге «Государство» он описывает диалектику как высшую науку, которая «ведет душу через ступени бытия» к созерцанию «самого благополучного в существующем» – идеи Блага.
Платоновская диалектика включает несколько аспектов:
– Синоптический аспект: Способность охватывать единым взглядом многообразие феноменов, сводя их к единству идеи.
– Диайретический аспект: Искусство деления рода на виды, восходящее к идее по лестнице понятий (как в диалоге «Софист»).
– Анамнетический аспект: Понимание познания как воспоминания (anamnesis) того, что душа созерцала в мире идей.
– Диалогический аспект: Познание истины через взаимодействие разных точек зрения в диалоге.
Платоновская диалектика стремится к синтезу противоположностей – единого и многого, бытия и становления, тождества и различия – в более высоком единстве идеи.
Гегелевская диалектика
Новый этап в развитии диалектического метода связан с именем Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831). Гегелевская диалектика представляет собой грандиозную попытку понять всю реальность как саморазвивающийся процесс, движимый внутренними противоречиями.
Ключевой принцип гегелевской диалектики – единство и борьба противоположностей. Любое понятие, доведенное до своего предела, переходит в свою противоположность, создавая противоречие, которое разрешается на более высоком уровне.
Гегель описывает этот процесс через знаменитую триаду:
– Тезис: Исходное понятие или положение.
– Антитезис: Отрицание тезиса, его противоположность.
– Синтез: Отрицание отрицания, снятие (Aufhebung) противоречия в новом, более высоком единстве.
«Снятие» (Aufhebung) – ключевое понятие гегелевской диалектики, объединяющее три значения: упразднение, сохранение и поднятие на более высокий уровень. В синтезе противоречие не просто устраняется, но сохраняется в преобразованном виде.
Гегель применял диалектический метод к различным сферам:
– В «Феноменологии духа» он прослеживает диалектическое развитие сознания от чувственной достоверности до абсолютного знания.
– В «Науке логики» он развертывает диалектику категорий мышления – от бытия и ничто через сущность и явление к понятию.
– В «Философии истории» он представляет историю как диалектический процесс, в котором реализуется свобода.
Гегелевская диалектика – это не просто метод мышления, но онтологический принцип, раскрывающий внутреннюю динамику самой реальности. Абсолютная идея, природа, дух – все развивается через противоречия к более высоким формам.
Марксистская диалектика
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, отталкиваясь от гегелевской диалектики, разработали материалистическую диалектику, «поставив Гегеля с головы на ноги». Если у Гегеля диалектика была методом развития идеи, то у Маркса она становится методом понимания материальной реальности, особенно социально-экономических процессов.
Марксистская диалектика акцентирует несколько ключевых принципов:
– Материалистическое основание: Диалектические противоречия существуют не в царстве идей, а в материальной действительности.
– Историзм: Явления должны рассматриваться в их историческом становлении и развитии, а не как вечные сущности.
– Единство теории и практики: Диалектика – не просто способ объяснения мира, но и метод его революционного преобразования.
– Социальная обусловленность мышления: Формы сознания, включая философские категории, отражают социально-экономические структуры эпохи.
Маркс применял диалектический метод прежде всего к анализу капиталистического способа производства, выявляя его внутренние противоречия (например, между общественным характером производства и частной формой присвоения), которые, по его мнению, должны привести к революционному преобразованию общества.
Негативная диалектика Адорно
В XX веке Теодор Адорно, представитель Франкфуртской школы, развил концепцию «негативной диалектики», критически переосмысливая гегелевскую и марксистскую традиции. Если классическая диалектика стремилась к позитивному синтезу, то негативная диалектика акцентирует момент отрицания и сопротивления тотализирующим тенденциям мышления.
Адорно выступал против отождествления понятия и реальности, подчеркивая «неидентичность» (Nichtidentität) – несводимость конкретного к абстрактному, частного к общему, индивидуального к универсальному. Негативная диалектика направлена на «спасение особенного» от подавления абстрактными категориями.
В отличие от гегелевской диалектики, которая стремится к финальному синтезу в абсолютной идее, негативная диалектика остается открытой, незавершенной, постоянно подрывающей устоявшиеся формы мышления. Это диалектика без синтеза, остающаяся в напряжении противоречий.
Диалектика в современной философии
В современной философии диалектический метод присутствует в различных формах:
Герменевтический круг в философии Хайдеггера и Гадамера представляет собой особую форму диалектики, где понимание движется между частью и целым, предпониманием и его коррекцией, традицией и современностью.
Диалектика различия у постструктуралистов (Деррида, Делез) фокусируется не на противоречиях, ведущих к синтезу, а на неустранимых различиях, которые делают невозможной окончательную систематизацию.
Критическая теория Хабермаса развивает диалектику как метод критического анализа социальных противоречий, особенно между системным и жизненным миром, между коммуникативной и инструментальной рациональностью.
Методологические аспекты диалектики
Несмотря на различия в пониманиях диалектики, можно выделить несколько общих методологических принципов:
– Принцип целостности: Явления рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи и целостности. Часть понимается через целое, а целое – через части.
– Принцип историзма: Явления исследуются в их становлении и развитии, с учетом их прошлого и потенциального будущего.
– Принцип противоречия: Внутренние противоречия рассматриваются как источник развития и движения. Противоречие не логическая ошибка, а отражение реальных напряжений в бытии и мышлении.
– Принцип отрицания отрицания: Развитие происходит через двойное отрицание, которое не просто возвращает к исходному, но поднимает его на новый уровень.
– Принцип единства логического и исторического: Логическое развитие понятий отражает исторический процесс развития реальности.
Диалектический метод в его различных формах остается одним из наиболее мощных инструментов философского мышления, позволяющим схватывать реальность в ее динамике и сложности, выявлять глубинные противоречия и напряжения, которые двигают мышление и бытие.
Феноменологический метод
Феноменологический метод, разработанный Эдмундом Гуссерлем (1859—1938) и развитый его последователями, представляет собой один из наиболее влиятельных подходов в философии XX века. Суть этого метода заключается в исследовании феноменов (явлений) как они даны сознанию, с целью выявления их сущностных структур.
Истоки и основания феноменологического метода
Гуссерль начал свой философский путь с критики психологизма в логике – попытки свести законы логики к эмпирическим закономерностям психики. В «Логических исследованиях» (1900—1901) он выдвинул программу феноменологии как «строгой науки», способной избежать как субъективизма психологических подходов, так и абстрактного формализма.
Ключевой принцип феноменологии выражен в призыве Гуссерля «Zurück zu den Sachen selbst!» («Назад к самим вещам!»). Это означает стремление исследовать феномены непосредственно, как они даны в опыте, избегая предварительных теоретических конструкций и естественных установок повседневного мышления.
Феноменологический метод включает несколько взаимосвязанных процедур:
Феноменологическая редукция (эпохе)
Первый шаг феноменологического метода – феноменологическая редукция, или эпохе (от греч. ἐποχή – воздержание). Это «заключение в скобки» естественной установки, то есть привычного убеждения в реальном существовании мира и природной причинности. Редукция не отрицает существование мира, но приостанавливает веру в него, чтобы исследовать, как мир конституируется в сознании.
Гуссерль различал несколько уровней редукции:
– Психологическая редукция: переход от наивного принятия мира к рефлексии над тем, как мир дан в сознании.
– Эйдетическая редукция: переход от конкретных, фактических феноменов к их сущностным структурам (эйдосам).
– Трансцендентальная редукция: переход от эмпирического, психологического сознания к трансцендентальному сознанию, конституирующему смыслы.
Редукция позволяет перейти от «естественной установки», в которой мы наивно принимаем существование мира, к «феноменологической установке», в которой мы исследуем, как мир является сознанию.
Интенциональный анализ
Центральное понятие феноменологии – интенциональность сознания, то есть его направленность на объекты. Сознание всегда есть «сознание о чем-то». Интенциональный анализ исследует структуру этой направленности, различая:
– Ноэзис: акт сознания (восприятие, воспоминание, воображение, суждение).
– Ноэма: содержание, или интенциональный объект акта (воспринимаемое, вспоминаемое, воображаемое, судимое).
Интенциональный анализ показывает, что объект не просто «отражается» в сознании, но конституируется в сложном процессе смыслообразования. Например, восприятие стола включает не только актуально данное (видимую сторону), но и аппрезентируемое (невидимую сторону), а также горизонт возможного опыта (как стол может быть воспринят с других точек зрения).
Эйдетическая вариация
Метод эйдетической вариации направлен на выявление сущности (эйдоса) феномена через мысленное варьирование его свойств. Исследователь мысленно изменяет различные аспекты феномена, чтобы определить, какие из них являются случайными, а какие – необходимыми для его идентичности.
Например, исследуя восприятие, мы можем мысленно варьировать его модальность (зрительное, слуховое), интенсивность, длительность, но обнаружим, что интенциональность и временная структура остаются необходимыми элементами любого восприятия.
Эйдетическая вариация позволяет перейти от эмпирического к эйдетическому уровню, от случайных фактов к сущностным структурам.
Конститутивный анализ
Конститутивный анализ исследует, как объекты различных уровней (материальные вещи, культурные предметы, идеальные объекты) конституируются в сознании. Конституирование – это не психологический процесс создания объекта, но трансцендентальный процесс наделения его смыслом и значимостью.
Гуссерль различал несколько уровней конституирования:
– Пассивный синтез: до-предикативное, автоматическое структурирование опыта (например, восприятие фигуры на фоне).
– Активный синтез: осознанное придание смысла через категориальные акты суждения, идеализации и т. д.
Через конститутивный анализ феноменология стремится понять, как различные типы объектов (физические, идеальные, культурные) обретают свой смысл в различных типах интенциональных актов.
Анализ времени-сознания
Особое место в феноменологическом методе занимает анализ внутреннего времени-сознания. Гуссерль показывает, что временность является фундаментальной структурой сознания, определяющей все формы опыта.
Он выделяет три момента в структуре времени-сознания:
– Прото-импрессия: переживание настоящего момента.
– Ретенция: удержание только что прошедшего в настоящем сознании.
– Протенция: предвосхищение ближайшего будущего.
Эта трехчленная структура обеспечивает непрерывность и единство сознания, не сводимого к моментальным «снимкам» переживаний.
Развитие феноменологического метода
После Гуссерля феноменологический метод был развит и трансформирован его учениками и последователями:
Мартин Хайдеггер переосмыслил феноменологию в онтологическом ключе. В «Бытии и времени» (1927) он определяет феноменологию как метод, позволяющий «дать увидеть то, что себя показывает, так, как оно себя показывает из самого себя». Феноменология становится герменевтикой фактичности, исследованием фундаментальных структур человеческого существования (Dasein) в его отношении к бытию.
Морис Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия» (1945) сместил акцент с трансцендентального сознания на воплощенное существование. Он исследовал роль тела как посредника между сознанием и миром, развивая феноменологию телесности, где тело – не просто физический объект, но «якорь» сознания в мире.
Жан-Поль Сартр в работе «Бытие и ничто» (1943) соединил феноменологический метод с экзистенциализмом, исследуя такие феномены, как свобода, тревога, ничто, взгляд Другого. Он развил антагонистическую диалектику «в-себе» (бытие вещей) и «для-себя» (сознание).
Эммануэль Левинас в «Тотальности и бесконечном» (1961) применил феноменологический метод к анализу этического отношения к Другому, которое он рассматривает как более фундаментальное, чем онтология.
Ханс-Георг Гадамер в «Истине и методе» (1960) развил феноменологическую герменевтику, исследуя структуру понимания как фундаментального способа человеческого бытия-в-мире.