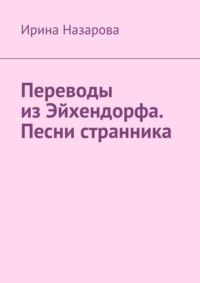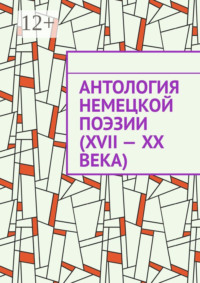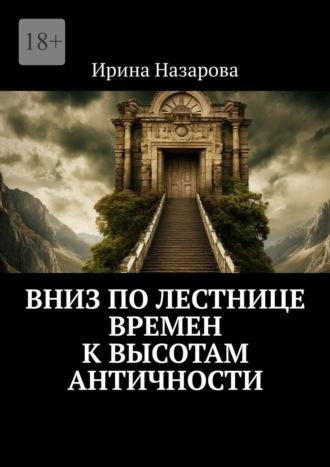
Полная версия
Вниз по лестнице времен к высотам античности
Законы Ликурга не переписывались, поскольку он сам считал, что для счастья необходимо, чтоб все законы вошли в нравы и образ жизни. Добрая воля делает больше, чем принуждение, а эту добрую волю формировало воспитание. Известно суждение Ликурга, запрещавшее вести войну с одним и тем же неприятелем, чтобы, привыкнув оказывать сопротивление, противник не стал воинственным. Считая воспитание высшей задачей для законодателя, Ликург обратил внимание на брак и рождение детей. Девушки должны были бороться, бегать, бросать диск, кидать копье, чтобы будущие дети были крепкими телом в чреве здоровой матери, чтобы матери могли разрешаться от бремени, благодаря крепости своего тела. Воспитание ребенка не зависело от воли отца. Он приносил его в «лесху» – место, где сидели старые члены филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали отцу, слабых и уродливых кидали в пропасть возле Тайгета. Для испытания здоровья новорожденного купали в крепком вине, от которого слабые и болезненные дети погибают, здоровые становятся еще крепче. Кормилицы ухаживали за детьми очень хорошо и прекрасно знали свое дело. Они не пеленали детей, давая им полную свободу, приучали их есть не много, не быть разборчивыми в пище, не бояться темноты, не капризничать и не ныть. Отцам не позволялось давать сыновьям такое воспитание, какое они считали нужным. Все дети с семи лет собирались вместе в агелы, особого рода лагеря. Пища детей была скудной еще из-за того, что им желали дать высокий рост: благодаря своей легкости, тело может вытянуться вверх, большое количество пищи давит жизненный дух, и он уходит вглубь и в ширину. Тело тонкое и худощавое скорее уступает росту, между тем как упитанное оказывает сопротивление. Еще спартанцы считали, что дети, родившиеся от матерей, принимавших во время беременности слабительное, бывают худощавы, но красивы и стройны.
Спартанцы ненавидели длинные речи. Их приучали говорить точно и кратко. Об этом свидетельствуют многочисленные афоризмы. Немалое внимание уделялось хоровому пению. В спартанских песнях было нечто воспламеняющее мужество, возбуждавшее порыв к действию. Слова были просты, но содержание серьезно и поучительно. Спартанцы шли на врага мерным шагом под звуки флейт. Нельзя не согласиться со знаменитыми поэтами того времени Терпандром и Пиндаром, что между спартанской храбростью и музыкой была теснейшая связь. Спартанский поэт говорит: «Кифары звук – мечу не станет уступать» Когда войско выстраивалось в боевом порядке в виду неприятеля, царь приносил в жертву козу и приказывал всем солдатам надевать венки, флейтистам играть «песнь в честь Костра». Сам он начинал военную песнь, под которую шли спартанцы. Величественное было зрелище. Ряды воинов были сомкнуты, ничье сердце не билось от страха, под звуки песен они шли спокойно. Ни горячность, ни страх не могли иметь места. Царь шел в окружении воинов – победителей на играх. Говорят, одному спартанцу предлагали большую сумму с условием, чтобы он уступил честь победы. Он не согласился и одержал победу. Его спросили: «Что пользы тебе, спартанец, в твоей победе?» Он, улыбаясь, ответил: «В сражении я пойду рядом с царем впереди войска». Одержав победу, спартанцы преследовали противника только на таком расстоянии, чтобы укрепить победу, а потом возвращались. По их мнению, убивать побежденных и отступающих было недостойно грека.
Воспитание спартанца продолжалось до зрелого возраста. Никто не имел права жить так, как хотел. Напротив, город походил на лагерь, где был установлен строго определенный образ жизни. Спартиаты вообще считали себя принадлежащими не себе лично, но отечеству.
Прекрасными во всех отношениях были законы Ликурга. У него ничто не было бесцельным, все важнейшие распоряжения имели целью хвалить доброе и порицать дурное. Он наполнил город множеством образцов для подражания, он берег город от внесения дурных нравов извне, поэтому не позволялось уезжать из Спарты путешествовать без определенной цели, мало того, он даже выселял из Спарты иностранцев, если они приезжали бесцельно и тайно, чтобы они не сделались учителями порока. Ведь с новыми лицами входят новые речи, новые понятия, появляется множество соблазнов. Криптии тоже приписывались Ликургу, но этот дикий произвол совсем не вяжется с личностью Ликурга. Главное, к чему стремился Ликург – сделать жизнь государства и отдельного человека счастливой, а таковой она может быть только в союзе с нравственной чистотой и в мире с самим собой. В Спарте было два царя одновременно. Один происходил из дорийского рода Эврипонтидов, другой – из ахейского Агиадов. Цари назывались басилеями или архагетами. Они имели жреческие функции и считались священными. Во время войны они командовали войском. Они также входили в герусию. Герусия была наиболее сильным и фактически управляющим государством органом. Геронты заседали в герусии пожизненно. После смерти одного из геронтов происходили выборы на открывшееся место нового геронта из спартиатов не моложе 60 лет, предложивших свою кандидатуру в народном собрании (апелле). Выделенную из апеллы специальную комиссию помещали в закрытое помещение, после чего мимо этого помещения проходили кандидаты в геронты. Комиссия, не видя проходивших, на слух определяла, при прохождении какого из кандидатов в апелле кричат громче всего. Такой кандидат считался избранным. Подобным же «детским способом», как выразился Аристотель, избирались и эфоры. Спарта была олигархическим государством, где главную роль играли герусия и эфоры. Реальной власти цари не имели. Более того, царя могли контролировать эфоры (дословно – блюстители, надзиратели). Эфоров было пять. Их избирали в народном собрании сроком на один год. Это были высшие должностные лица, контролирующие все спартанские учреждения. Если царь не являлся к эфору, его приводили силой. Эфоры могли привлечь к суду любого из геронтов и даже царей или наложить на них денежный штраф. Каждый месяц спартанские цари давали эфорам клятву царствовать по законам государства. Раз в восемь лет эфоры собирались в святилище богини-прорицательницы и наблюдали за падающими звездами. Если звезда падала в определенном направлении – это означало, что один из царей должен быть смещен. Горе, было царю, который пытался им воспротивиться. Не раз эфоры изгоняли неугодных им царей, а некоторых даже приговаривали к смерти. Если цари были моложе 30 лет, их в герусии представляли опекуны.
Военное преимущество Спарты и возглавляемого ею Пелопоннесского союза не вызывало сомнения во всей Греции. Для своего времени войско Спарты было отлично организованным. Спартиаты были дисциплинированы. В бой за гонимыми впереди илотами шли молодые спартиаты, потом пожилые и старики до 60 лет. Они с детства умели прекрасно владеть оружием. Эта армия была лучшей в Греции. Но преклонение перед Спартой означает преклонение перед насилием аристократов и перед рабством в худшей его форме. Спартанский строй был самым реакционным среди древнегреческих государств. Сама Спарта, которая имела гегемонию в Пелопоннесском союзе, всегда поддерживала вместе с этим союзом все антидемократические течения и действия, возникавшие в древней Греции.
ДРЕВНЯЯ АТТИКА
Аттика – это каменистый полуостров на Эгейском побережье Средней Греции. Аттика во главе с Афинами превзошла надолго все торгово-промышленные полисы, хотя развилась несколько позднее. Плодородной земли в Аттике мало, но зато есть глина для развития керамики, серебро, свинец, мрамор. Природные условия благоприятны для возделывания винограда и оливководства. Недостаток продовольствия издревле заставлял жителей Аттики заниматься ремеслами и морской торговлей, обменом ремесленных изделий на ячмень и пшеницу.
Постепенное объединение ионийских племен вокруг Афин сопровождалось многочисленными войнами. Это объединение начал еще Тесей во II тыс. до н. э. При этом он разделил свободное население на три сословия: евпатридов (т.е. аристократов), геоморов (землевладельцев) и демиургов* (ремесленников, работающих для народа). В древнейшие времена в Афинах правили басилеи или басилевсы, постепенно они утрачивали свое политическое значение, и власть перешла в руки полемарха -военначальника. Но уже в 1Х-У111 вв. до н.э. главой аристократического полиса становится архонт. Шесть фесмофетов, басилеи, полемарх* и архонт стали вскоре называться коллегией девяти архонтов. Первый архонт получил название архонта-эпонима, то есть архонта, по имени которого стал обозначаться год. Должность басилея не была упразднена вовсе, но сохранила за собой только религиозные функции. На все эти должности избирались лица из аристократических родов, сначала пожизненно, потом на 10-летний срок, а в первой четверти У11 века они сделались одногодичными. На протяжении всей истории этого периода продолжалась борьба демоса с аристократией. Евпатриды творили суд согласно устно передаваемой традиции, записи законов не существовало, это было, конечно, на руку аристократам. Народное собрание в Афинах, как и в других аристократических полисах, не было самостоятельным. Высшим законодательным и судебным органом был совет знати, который заседал на холме, посвященном богу войны Аресу – Ареопаге, расположенном около Акрополя. Отсюда название совета – ареопаг*. Постепенное расслоение общества привело к разорению геоморов, с одной стороны, но и к появлению зажиточных слоев демоса – с другой. Обострившимися отношениями между аристократией и демосом решил воспользоваться популярный в Афинах того времени победитель олимпийских игр евпатрид Килон, чтобы сделаться афинским тираном.* Около 640 года до н. э. Килону удалось захватить Акрополь. Однако афинский демос еще не был готов к выступлениям подобного рода против евпатридов. Под руководством архонта Мегакла была организована осада Акрополя. Килон бежал, его приверженцы сдались, поскольку осаждавшие обещали им жизнь. Обещание это было, разумеется, хитростью, ибо афиняне боялись, что засевшие в Акрополе «килоновцы» умрут от голода и осквернят своей смертью святилище. Мегакл не сдержал слово: как только сторонники Килона покинули святилище, их всех перебили. В 621 году после того, как евпатриды были вынуждены сделать уступку под давлением зажиточного демоса, и согласились на запись законов, дело было поручено архонту по имени Драконт, который вскоре обнародовал правовые нормы. Они вошли в историю под названием «драконтовских законов», которые стали эпитетом жестоких законов вообще. Чрезмерная суровость законов Драконта относится, прежде всего, к наказаниям за хищения. Любое, пусть даже мелкое, воровство каралось смертной казнью. Драконт ограничил право кровной мести и установил процедуру судебного разбирательства по делам об убийствах, где различалось умышленное и неумышленное убийство. Однако запись законов Драконта не положила конец противоречиям между демосом и евпатридами. Силы демоса росли, а многие евпатриды разорялись. Потребовалось совершенствование реформ и законов.
В 594 году до н.э. архонтом был избран Солон, по происхождению он был евпатридом, по имущественному положению принадлежал к средним слоям демоса. Итак, Солон по своему состоянию оказался между боровшимися партиями, и это давало ему возможность обращаться к обеим партиям в своих стихах, ведь он был к тому же превосходным поэтом. Вот один из примеров его поэтической силы и мудрости. Пользуясь смутами у афинян, мегарцы захватили принадлежавший афинянам остров Саламин. Вернуть остров афинянам не удавалось. Тогда Солон, притворившись сумасшедшим, продекламировал на площади перед собравшимся народом элегию под названием «Саламин». Прикинуться безумным ему пришлось, афиняне под страхом смерти запретили поднимать вопрос о возвращении Саламина из-за неудачных попыток отвоевать его. В этой элегии Солон говорил, что потеря Саламина является позором для афинян и т. д. Элегия заканчивалась призывом:
«На Саламин поспешите, сразимся за остров желанный.Чтобы скорее с себя тяжкий позор этот снять!»По преданиям элегия произвела сильное впечатление, воодушевила афинян на борьбу, они взялись за оружие и отбили свой остров. Видя, к каким губительным последствиям приводит государство междоусобица. Солон старался воздействовать на общественное мнение своими элегиями. Особенную известность ему принесла элегия, которая начиналась словами:
«Да, понимаю, и в сердце глубоко мне горе запало;Вижу, как клонится ниц бывшая первой странаМеж ионийских земель»Своими элегиями Солон приобрел известность и доверие обеих партий и был избран архонтом, и был облечен чрезвычайными полномочиями с тем, чтобы в качестве посредника уладить раздоры и написать законы, что он с блеском выполнил. Однако вскоре оказалось, что своими реформами он не удовлетворил ни ту, ни другую сторону. На Солона посыпались обвинения со всех сторон, и ему пришлось в стихах объяснять сущность и значение проведенной им реформы. Реформы Солона можно разделить на экономические и политические. Главная экономическая реформа состояла в том, что Солон отменил долговое право, освободив задолжавших крестьян от вечного рабства. При этом, однако, Солон категорически был против передела земли, но известен также закон, по которому количество приобретаемой земли было ограничено, существовал определенный максимум. Солон запретил вывоз зерна из Аттики, но разрешил вывоз оливкового масла. В целях развития ремесла он издал закон, по которому сын мог отказать в поддержке престарелому отцу, если тот не научил его в свое время какому-либо ремеслу и издал закон против праздности. Солон ввел единые меры и провел денежную реформу. Экономические реформы Солон дополнил политическими: он отменил генократию (власть родовой аристократии) и заменил ее тимократией (власть, основанная на имущественном цензе), лишив аристократию привилегий, связанных с пережитками родового строя. Все граждане Аттики были разделены на четыре разряда по имущественному цензу. За основу ценза был принят натуральный доход от землевладения. Затем Солон ослабил ареопаг, изъяв из его компетенции подготовку дел для обсуждения их в народном собрании – эклексии. Солон учредил новый верховный суд присяжных – гелиэю. В целом, реформы Солона были компромиссными, но ими были недовольны как евпатриды, так и бедные слои демоса. Бедняки требовали изъятия части земель у евпатридов и присоединения ее к своим маленьким участкам, чтобы довести урожай до прожиточного минимума. Но Солон на это не пошел. Тем не менее, реформы Солона имели большое значение для дальнейшего социально-экономического и политического развития Аттики. Своими реформами Солон легализовал те естественно развивающиеся социально-экономические и политические отношения, которым не давали хода евпатриды, стоявшие у власти до Солона. Избранный на должность архонта Солон пробыл у власти один год по положению. По истечении этого срока против него выступила старая знать и низшие слои демоса. Солон вынужден был уехать на некоторое время из Афин. После отъезда Солона классовая борьба в Аттике обострилась. Руководителем одной из враждующих социально-политических группировок был некий Писистрат. Писистрат совершил государственный переворот и сделался тираном. Он продолжил дело, начатое Солоном. Власть Писистрата не была прочной. Два раза его изгоняли из Афин, но ему снова удавалось захватывать власть, он не только сумел удержать власть, но и передать ее своим сыновьям Писистратидам – Гиппию и Гипарху. Но время тирании подходило к концу. Усилившийся городской демос приобрел политический опыт, к тому же наступление недавно возникшей Персидской державы нанесло огромный ущерб морской торговле Афин. Популярность Писистратидов упала. Евпатридам удалось убить Гипарха, в ответ на это Гиппий перешел к террористическому режиму, чем вызвал недовольство афинян. Аристократическая Спарта, опасавшаяся усиления демоса в Афинах и бывшая свидетельницей упадка афинских евпатридов под ударами тирании, тоже выступила против Гиппия, надеясь восстановить в Аттике строй отцов, аристократию*. Спартанцам удалось добиться победы – Гиппию пришлось удалиться из Афин. Тирания была свергнута. Но попытка спартанцев восстановить в Афинах власть аристократии вызвала всеобщее восстание городского и сельского демоса. Спартанский отряд и поддерживаемые ими афинские аристократы были разбиты, заперты в Акрополе и капитулировали. Демос победил. Во главе Афин оказался Клисфен, руководитель демократов, противник Писистратидов и старой аристократии. Клисфен приступил к реформам и ликвидировал остатки родоплеменных отношений. Сформировалась система афинской рабовладельческой демократии, которую афинский полис сохранял практически весь период расцвета. Фактически Клисфен усовершенствовал начатые Солоном реформы. Реформами Клисфена был завершен процесс оформления афинского демократического рабовладельческого полиса, устранившей остатки родового строя.
* полемарх —от греч. cлова polemos – война, и архон —правитель, лидер, т.е. главный или старший военначальник
* тиран – tyrannis, nidis f (греч.) – тирания, деспотическая власть
* аристократия – в переводе с греческого означает «власть лучших»
* ареопаг- греч. areiopagos, от areios – посвященный Аресу, и pagos – холм). Древнегреческое верховное судилище, которое располагалось на марсовом холме.
Глава5
Греко-персидские войны. Медицина архаического периода. Празднества
Во второй половине VI века до н.э. огромная Персидская держава достигла вершины своего могущества во время правления Дария I. Завоеванные персами территории облагались колоссальной данью, поэтому персы были заинтересованы в завоевании новых земель, ибо истощили подвластные территории. Персы захватили богатые греческие полисы на Эгейском побережье Малой Азии, подчинили себе греческие колонии и отдельные острова у малоазийского побережья. В процессе завоеваний они столкнулись с племенами фракийцев и скифов на европейских берегах Мраморного и Черного морей. Поход Дария I на скифов потерпел фиаско, ибо, не имея точных сведений о природных условиях Северного Причерноморья и стремясь разбить главные силы скифов, войска Дария чересчур углубились в причерноморские степи. Скифы же избрали самую целесообразную тактику в борьбе против нашествия персов. Они уклонялись от решительного боя, уничтожали колодцы, лишали противника продовольствия на пути следования персидской армии, истребляли небольшие отряды персов. Дарию пришлось отказаться от мысли завоевать Скифию. По свидетельству Геродота, военные обычаи скифов следующие: «Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только тот, кто принесет голову врага, получает свою долю добычи, а иначе – нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется, как полотенцем для рук, привязывает его к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот и считается самым доблестным мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как козьи шкуры. Другие из содранной вместе с ногтями правой руки вражеских трупов кожи изготовляют чехлы для своих колчанов. Человеческая кожа, действительно, толста и блестяща и блестит ярче всякой иной. Многие скифы, наконец, сдирают всю кожу с вражеского трупа, натягивают ее на доски и затем возят ее с собой на конях. … С головами же врагов (но не всех, а только самых лютых) они поступают так: сначала отпиливают черепа до бровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи сыромятной воловьей кожей и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сначала обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши. Так скифы поступают даже с черепами своих родственников (если поссорятся с ними и когда перед судом царя один одержит верх над другим). При посещении уважаемых гостей хозяин выставляет такие черепа и напоминает гостям, что эти родственники были его врагами, и что он их одолел. Такой поступок у скифов считается доблестным деянием. Раз в год каждый правитель в своем округе приготовляет сосуд для смешения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это постыднее всего… Когда у скифов умирал царь, вырывали большую четырехугольную яму. Приготовив яму, тело поднимают на телегу, покрывают воском; потом разрезают желудок покойного; затем очищают его и наполняют толченым кипером, благовониями и семенами селдерея и аниса. Потом желудок снова зашивают и везут на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело царя, при этом поступают так же, как и царские скифы. Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда везут покойника на повозке в другую область своего царства. Сопровождают тело те, к кому оно было привезено раньше. После объезда всех областей они снова прибывают к царским могилам. Там тело на соломенных подстилках опускают в могилу, по обеим сторонам втыкают в землю копья, а сверху настилают доски и покрывают их камышовыми циновками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши. После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем наперебой стараются сделать его как можно выше. Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды: из остальных слуг покойного царя выбирают самых усердных (все они коренные скифы: ведь всякий, кому царь прикажет, должен ему служить; купленных же за деньги рабов у царя не бывает). Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней), извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют отрубями, а затем зашивают. Потом на двух деревянных стойках укрепляют половину колесного обода выпуклостью вниз, а другую половину – на двух других столбах. Таким образом, они вколачивают много деревянных стоек и ободьев; затем, проткнув лошадей толстыми кольями во всю длину туловища до самой шеи, поднимают на ободья. На передних ободьях держатся плечи лошадей, а задние подпирают животы у бедер. Передние и задние ноги коней свешиваются вниз, не доставая до земли. Потом коням надевают уздечки с удилами, затем натягивают уздечки и привязывают их к колышкам. Всех 50 удавленных юношей сажают на коней следующим образом: в тело каждого втыкают вдоль спинного хребта прямой кол до самой шеи. Торчащий из тела нижний конец кола вставляют в отверстие, просверленное в другом коле, проткнутом сквозь туловище коня. Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят. Так скифы погребают своих царей. Когда же умирают все прочие скифы, то ближайшие родственники кладут тело на повозку и возят по всей округе к друзьям. Все друзья принимают покойника и устраивают сопровождающим угощение, причем подносят и покойнику отведать тех же яств, что и остальным. Простых людей возят, таким образом, по округе 40 дней, а затем предают погребению. После похорон скифы очищают себя следующим образом: сперва умащают и затем промывают голову, а тело очищают паровой баней, поступая так: устанавливают три жерди, верхними концами наклоненными друг к другу, и обтягивают их затем шерстяным войлоком; потом стягивают войлок как можно плотнее и бросают в чан, поставленный посреди юрты, раскаленные докрасна камни. В Скифской земле произрастает конопля – растение очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее… Фракийцы изготовляют из конопли даже одежды, настолько похожие на лен, что человек, не особенно хорошо разбирающийся, даже не отличит – льняные ли они или из конопли, а кто никогда не видел конопляной ткани, тот примет ее за льняную. Взяв конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия. Это парение служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются. Скифские женщины растирают на шероховатом камне куски кипариса, кедра и ладана, подливая воды. Затем полученным от растирания тестом обмазывают свое тело и лицо. От этого тело приобретает приятный запах, а когда на следующий день смывают намазанный слой, оно становится даже чистым и блестит».
Мы не будем вдаваться в подробности историко-географического характера, предоставим это историкам, мы лишь проясним для себя картину эпохи. Торгово-ремесленные массы Греции, едва победив родовую аристократию, столкнулись с внешним врагом. Демос понимал, насколько велик был перевес сил в пользу Персии, и это удерживало его от открытых выступлений, в то время как многие аристократы были не против любой ценой вернуть господствующее положение, пусть даже ценой подчинения Персии. Персы знали о разногласиях внутри Греции, и умело пользовались ими. Всего было три крупных похода Персии на Грецию. До тех пор, пока греки не осознали со всей очевидностью, что противостоять столь могущественному врагу, можно лишь объединившись, они терпели поражение от персов. Дарий I вторгся в Грецию в 492 г. до н. э. Персидским войском командовал зять Дария Мардоний. Войска персов успешно продвигались, но фракийские племена несколько ослабили своим сопротивлением персов. К тому же у мыса Актэ (Афон) разразилась страшная буря, которая уничтожила большую часть персидского флота. Мардонию пришлось отступить. После отступления Мардония Дарий направил в Грецию послов с требованием дать персам «землю и воду», т.е. признать над собой власть Персии. Большинство полисов выполнило это требование и формально подчинилось персам. Только два самых сильных полиса выступили открыто против – демократические Афины и аристократическая Спарта. В Афинах персидских послов во время обсуждения требований сбросили со скалы, в Спарте – утопили в колодце со словами, что там они получат и землю и воду. Главным противником персы считали Афины. В 490 году состоялся второй поход против Греции. В Аттику отплыл сильный персидский флот. Хотя греки быстро узнали о наступлении персов, брожение и проперсидские настроения замедлили реакцию на вторжение. Лишь при известии, что персы высадились у Марафона, привело в боевую готовность афинское ополчение. Народное собрание решило дать сражение у Марафона, не дожидаясь вторжения персов в Афины. Афиняне послали в Спарту гонца с просьбой о помощи, но спартанцы заняли выжидательную позицию. Афиняне могли рассчитывать только на себя. Войско персов по численности превышало войско афинян, нужно было талантливое командование, мнение стратега Мильтиада начать бой первыми победило. Мильтиад рассчитывал на боевой дух своих воинов. Для рукопашной схватки с персами надо было пройти от одного до полутора км. Самым опасным пространством для афинских гоплитов были последние сто метров атаки, так как стрелы персидских лучников поражали именно в этих пределах. Мильтиад приказал гоплитам это расстояние пробежать. Во-первых, быстрота пробега уменьшала потери от стрел, во-вторых, гоплиты наступали по наклонной, и разбег приобретал дополнительную ударную силу. Сухопутные войска афинян одержали победу, к тому же удалось захватить семь военных кораблей врага. Персы решили обогнуть полуостров Аттика и напасть на беззащитные Афины. Мильтиад разгадал это намерение и приказал всему ополчению, кроме маленького отряда, возвращаться в Афины кратчайшей дорогой. Когда персы подошли к афинским гаваням, они увидели мощную береговую оборону и удалились. Победа при Марафоне дала грекам уверенность в возможности защиты своей независимости. Персы, однако, не отказались от своих притязаний на Грецию, но вскоре умер Дарий 1, и в Персии некоторое время были внутренние волнения. Греки тоже не сумели использовать передышку. Раздоры между группировками и полисами продолжались. Место Дария занял Ксеркс. В Греции тоже готовились к войне. Во главе сухопутных войск стал Аристид, во главе морских сил – Фемистокл. Афины приступили к срочной постройке флота, потребовалось два года, и Афины располагали самым мощным флотом в Греции – 180 триер. Афины заключили союз со Спартой, к ним примкнуло еще несколько греческих полисов. Весной 480 года начался третий поход персов на Грецию, Македония и Фессалия подчинились Ксерксу. Чтобы противостоять сильному врагу, решено было послать флот к мысу Артемисию на побережье Эвбеи, а войско – к Фермопилам, горному проходу, через который шел путь из Фессалии в среднюю Грецию. Проход этот был столь узок, что по нему могла проехать только одна повозка. С запада тянулась неприступная отвесная гора, а на востоке до самого моря простирались непроходимые болота. Некогда жители Фокиды, обороняясь от соседних фессалийцев, перегородили этот проход стеной; около нее протекали теплые источники, от них и сам проход получил название Фермопилы – «теплые ворота». Здесь маленькое войско, решившееся твердо выполнить свой долг могло надолго задержать самого сильного врага. Спарта выделила очень небольшой отряд воинов – 300 спартанцев (притом таких, у кого уже были дети) и 1000 периэков под командованием царя Леонида, человека твердого и мужественного, опытного в военном деле и любящего свою родину. Всего при Фермопилах оказалось 7200 воинов. Леонид послал гонца в Спарту, чтобы поторопить подкрепление. Несмотря на отчаянное положение, греки не теряли мужества. Когда им сказали, что персов идет такое множество, что они заслонят своими стрелами солнце, один спартанец ответил: «Будем сражаться в тени». Ксеркс подослал лазутчика выведать численность и намерения врагов. Когда шпион подобрался к стану спартанцев, он заметил часовых-лакедемонян. Он увидел, как одни из них занимались телесными упражнениями, а другие расчесывали волосы. Лазутчик смотрел на это с удивлением. Когда же он узнал численность спартанского войска, он спокойно уехал назад. На него никто не обратил внимания. Ксерксу поведение спартанцев казалось смешным. Ксеркс послал за греком Демаратом, который находился в то время в персидском стане, и стал расспрашивать его, пытаясь понять действия спартанцев. Демарат отвечал: «…Эти люди пришли сюда сражаться с нами за этот проход, и они готовятся к битве. Таков у них обычай: всякий раз, как они идут на смертный бой, они украшают себе головы. Знай же, царь, если ты одолеешь этих людей и тех, кто остался в Спарте, то уже ни один народ на свете не дерзнет поднять на тебя руку. Ныне ты идешь войной на самый прославленный царский род и на самых доблестных мужей в Элладе». Слова Демарата не убедили Ксеркса. Четыре дня Ксеркс выжидал, надеясь, что спартанцы обратятся в бегство. На пятый день царь приказал части своего войска взять спартанцев живыми и привести пред его очи. Схватка длилась целый день. Тогда всем стало ясно, что людей у персов много, а мужей мало. Леонид два дня отражал превосходящие силы персов, но нашелся предатель и провел персов в тыл спартанского войска. (Впоследствии этот предатель, его звали Эпиальт, был убит). Леонид приказал спартанцам не отступать, а греческим отрядам отступить. Леонид знал, что он погибнет. Перед боем он обратился к прорицателю, который поведал ему о его участи. Спартанцы бились с безумной отвагой. Им уже стало известно, что их взяли в кольцо, но это только утроило силы. Два брата Ксеркса пали в этой битве. Погиб и Леонид. За тело Леонида началась рукопашная схватка. Вместе со спартанцами сражались 400 человек феспийцев, которые также погибли все до одного. Персам удалось выиграть сражение при Фермопилах, однако число жертв было огромным. Ксеркс был вне себя. После битвы он шел между мертвыми телами, ища тело Леонида. Найдя его, он приказал отрубить ему голову и посадить ее на кол. Никого из своих врагов царь Ксеркс не ненавидел так яростно, как Леонида, иначе никогда бы не учинил такого надругательства над телом павшего, тем более что персы в то время были, чуть ли не единственным народом, почитавшим доблесть и храбрость противника. Над павшими греками, погребенными здесь же, у Фермопил, была поставлена плита со стихами знаменитого поэта Симонида: «Некогда против трехсот мириад здесь сражалось четыре тысячи ратных мужей пелопоннесской земли».