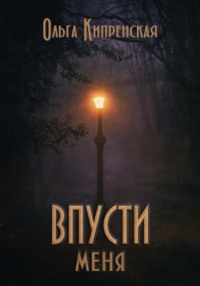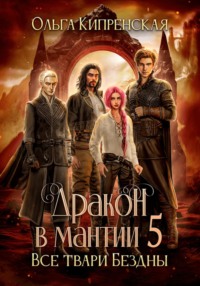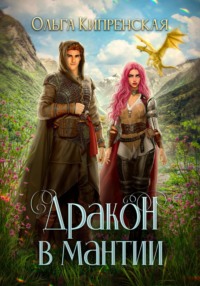Полная версия
Тайна проклятого рода
По листку же, медленно набираясь света, пробежала огненная вязь букв.
– Да, что ж там такое-то? – Всплеснула руками Сосипатра. – Это ж магиковы шутки! – Озвучила она то, что терзало всех невольных свидетелей явления ларца.
Тётушка, поменявшись в лице, флакончик с солями открыла. Лукьян сделался суров, вилы свои обнявши. Дуняша схватилась за сердце, будто чувств собиралась лишиться, но, с явным сомнением в глазах оглядела пол и себя. Лишаться чувств передумала, верно рассудив, что с ее телесным богатством падая, расшибиться можно.
Катя вздохнула.
Магия…
Она не то, что под запретом была, нет. Целители вон, почти все силою обладали. В жандармерии, опять, магики многие служили. На службе у государя-императора и вовсе настоящие некромантусы имелись, а еще огненные маги великой силы. Да и сам государь-император был не простой крови, как и все древние рода.
Магии обучали в Академии. Попасть туда было великой честью, даже для представителей великих родов.
Да только вот церковь Всеблагого магию совсем не одобряла, и сам государь, несмотря на то, что про кровь его говорили, тоже с подозрением к магикам относился, по слухам.
А все потому, что, когда Самозванец на земли Империи войско ляхов привел, престол да шапку Мономаха требовать, были магики, даже из великих родов, что на его сторону встали. И много крови пролилось, прежде чем с Самозванцем управились.
С тех пор за великими родами надзирали, чтобы своих одарённых не прятали. Девицам силу закрывали, коль вдруг стихия в них просыпалась, ибо девица есть сосуд греха, и сила в ней того и гляди переродиться могла в черную, ведьмовскую. Мужчин обязали клятву в храме давать.
Да и сама сила будто уходила.
В Смуту-то великие рода повыкосило, особливо, когда ляховские маги черную ведьмацкую чуму выпустили. Чуму остановили, отвернули, но за то заплатили цену немалую. Такую, что и двести лет спустя многие великие не встали заново.
У простого дворянства одаренные дети еще рождались, но нечасто. Катя вот дара не получила, хотя в пансионе проверяли ее не раз и не два – почему-то мадам была уверена, что у Волошиной обязательно должно что-то, да проявиться. Впрочем, в пансионе ни одной воспитанницы, хоть сколько-нибудь магически одаренной, и не было.
Простолюдины же и вовсе редко одаренными рождались, хорошо, если один маг на несколько тысяч младенцев появлялся. Но если кому и везло, то в первом-втором поколении у таких магиков силы особой и не было. Так, по мелочи. И учить ею владеть их никто не учил, так и гасла искра, не разгораясь. Разве что целителям, да нюхачам вот везло – ибо без силы никак целителю, а жандарму куда без нюха на злое?
Потому, если до Смуты ларец почтовый, коль верить хроникам, вовсе обыденностью был, то по нынешним временам не запретная волшба, конечно, но кто на нее способен?
– Читай уж, что пишут! – Снова стукнул Емельян рукоятью вил по полу.
– Сим довожу до сведения девицы Волошиной, Екатерины Штефановны, что надлежит ей прибыть в город Санкт-Петербург, в десятый дом по Новинскому бульвару, к нотариусу Жеребцову, для установления права ее на наследство и вступления в оное. – Послушно прочла Катя, и по кабинету пролетела очередная волна вскриков да охов.
Скорее уж, одобрительных.
Ибо магики, конечно, плохо, но наследство – всегда хорошо.
И листок, будто разом отдав все вложенные в него силы, потемнел, упал, став обычным письмом… А Катя, разом растеряв силы, сама опустилась прямо на пол.
Довольный голос Сосипатры Ильиничны, радующейся наследству, раздавался где-то над головой. Тетушка Милослава ей что-то отвечала. Кажется, коровок они обсуждали голландских и бычка, что можно на наследство купить. И сам размер предполагаемого наследства.
Кате очень хотелось подняться и выгнать все семейство Земцовых, а тетушке не сказать, но закричать, чтобы замолчала. А еще – заплакать. Даже не заплакать, а завыть, как выли на похоронах деревенские бабы.
Ведь наследство означало, что мать ее, Лизавета Волошина, урожденная Алабышева, пропавшая четыре года назад где-то в аглицких краях, признана умершей – что государевыми службами, что жрецами Всеблагого, не видящими ее среди живых.
Особо близки мать и дочь Волошины никогда-то не были. Не потому, что Лизавета дочку не любила, нет, наоборот, в родительской любви Катя совсем не сомневалась. Просто друг друга они любили больше, и ребенок в этой их любви был немного…Лишним.
Когда Штефан и Елизавета вспоминали, что у них есть дочь, то баловали ее безмерно. Но большую часть времени Катя все равно проводила с тетушкой. В детстве ей это казалось нормальным. Немного обидным, но нормальным. Став постарше, познакомившись в пансионе с другими девицами, Катя поняла, что ей как раз повезло: на других родители обращали внимание еще менее.
Ее же, как никак, даже спать укладывали и сказки рассказывали, пусть и не ей скорее, а друг другу…
Такой родительской любви выросшая Катя даже завидовала. Все у них было… Да как в романе!
До женитьбы Штефан служил в Пятом гусарском Александрийском Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего полку. Служил до тех пор, пока не увидал русые локоны и голубые глаза смолянки Лизоньки Алабышевой.
Лизонька была всего лишь младшей дочерью младшей ветви рода, но сам род от Рюриковичей шел и в “Государевом родословце” упоминался, а потому, казалось – она, и где гусар Волошин с дворянством, жалованным деду за доблесть в битве при местечке Фер-Шампенуаз, да сельцом Тещин Тупик, в Малые Шарпенуазы переименованном народною молвой?
Но в Смольном институте благородных девиц в моде считалась романтичность. Лизонька же была очень модной барышней. Современной. И очень решительной.
Пока другие девицы лишь вздыхали о любви, готовясь к замужеству с выбранными родителями женихами, Лизонька изволила взять судьбу за рога и обустроить личное счастье своими беленькими, хрупкими на вид ручками.
Ручками неожиданно сильными, кстати.
Штефан Волошин сам не понял, как, насмелившись в театре подбросить недостижимой красавице скромный букет из ландышей и розовых маргариток, оказался женат. Не просто женат, а женат со скандалом!
Несколько месяцев длился их поначалу безмолвный роман. Не рискуя отправить в Смольный и записки малой, Штефан поджидал момент, как институток вывезут на прогулку в сад аль в театр. Он молча любовался своей богиней, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди от восторга, когда на шляпке ее увидел те самые розовые маргаритки.
На следующей прогулке он показался на глаза Лизоньке со страстоцветом, воткнутым в петличку. Лизонька затрепетала ресницами и покраснела, склонив свою прелестную голову.
Чуть легче стало, когда Лизонька, окончив обучение свое, вернулась в отчий дом. Штефана представила Лизоньке дальняя родственница Алабышевых. Влюбленные смогли перекинуться словечком в парке – раз, другой. Пройтись рядом по набережной под строгим взглядом сопровождающей Лизоньку компаньонки.
Семейство Алабышевых рассчитывало на блестящую партию и начало постепенно подбирать ей женихов. Но какая партия, когда – любовь?
Однажды далеко за полночь Лиза явилась в скромную квартирку Волошина, перепугав денщика. Она трагическим голосом сообщила, что ей либо за него замуж, либо – в петлю. Ибо батюшка гневается, требует, чтобы она, Лизонька, шла за нелюбимого, да не за кого-нибудь, а за страшного и жуткого князя Ланевского, верного государевого пса, всегда стоящего у него по-за плечом. А она не желает! И даже документы свои выкрала…
Потом была бешеная скачка полночи, и еще день, и венчание в скромной сельской церкви. Батюшка, вытащенный прямо из кровати. Тонкие ободки скромных обручальных колец, купленных в попавшейся на пути лавке старого йеходима…
Отставка Волошина…
И отказ Алабышевых боле считать Лизоньку дочерью своего рода. Ее имя вычеркнули из родовых списков и очереди наследования, не захотев увидеть даже семь лет спустя, когда господь одарил чету Волошиных долгожданным ребенком – дочерью Екатериной.
Впрочем, о родне материной что в детстве Катя не думала, что, став взрослой.
В детстве и вовсе…
В доме была любовь и ощущение какого-то светлого, легкого, совершенно беззаботного счастья. Оно пахло сдобными булками и жженым сахаром; сиренью и липовым цветом, березовым дымком и свежей колодезной водой.
Закончилось только все вмиг, по осенней поре.
Озоровать начали в окрестностях. На степных дорогах, раньше безопасных, пропадали путники. Поначалу грешили на волков, потом заговорили о лихих людях и собрались всей округой идти их воевать. Предводитель уездного дворянства решил поход возглавить.
Собрались, да не все вернулись.
Ватагу нашли, но оказалась она больно велика, да оружна. И кого-то пораненным принесли, кого-то мёртвым, а Волошина и вовсе не вернулся. Исчез без следа.
Помнили, что рубился он с татями во первых рядах, ибо трусом никогда не был, а вот куда делся потом – никто не знал. Ни тела на месте не оказалось, ни одежды клочка.
Подозревали, что уцелевшие разбойники утащили его с собой, то ли раненого, то ли оглушенного. Надеялись, что запросят выкупа…
Да только какой выкуп с Волошиных взять, коль всего богатства – сельцо?
Катя помнила, что матушка в тот день и места себе найти не могла. Что хваталась она за сердце, что голова-то у нее разболелась. А, как увидела мужиков вернувшихся, да в ноги барыне кинувшихся, так и упала.
Испугались – замертво, ведь какая любовь была.
Но Бог миловал, всего-то без памяти.
Беспамятство перешло в горячку. Она терзала Лизавету Волошину неделю, несмотря на зелья и то, что спешно привезённый из Курска целитель-магик напрямую вливал в женщину силу.
Тетушка Милослава сама молилась и Катеньке молиться велела, мол, авось и образуется. Потому, когда Лизавета встала – к вящему недоумению целителя, уже смирившегося, что пациентка отойдет – то и решили: молитвы невинного дитяти услышаны были.
Вот только матушка стала иной…
Утратила веселье свое, охладела к окружающим. Много времени стала проводить в одиночестве, запираясь в кабинете пропавшего супруга.
А потом вовсе в один день собралась, укатила в Санкт-Петербург, и в Малые Шарпенуазы больше не вернулась.
Прислала письмо, распорядившись отправить дочь в пансионат для девиц и, что было вовсе неожиданно, чек на целую тысячу рублей в Имперском банке. В письме говорилось, что такую же сумму тётушка будет получать каждые полгода на хозяйство, и ещё столько – на содержание Катеньки, чтобы росла, как и подобает барышне из хорошей семьи.
Сама матушка отправилась в путешествие, сначала на Ближний Восток, потом в Европу.
Катя плакала, не понимая, что с матушкой случилось, и спрашивала тетушку, почему ее с собой не взяла. Тётушка гладила ее по русым локонам и пыталась успокаивать, но и сама не знала причины.
Со временем-то слезы высохли.
Тем паче, в пансионе оказалось не так плохо, и матушка иногда наездами появлялась. Редко, правда, и непременно скандализируя общество.
Глава 3
Общество, что свет столичный, что полусвет, скандализироваться, разумеется, и само любило. Но надо было признать – изменившаяся после смерти супруга Волошина умудрялась дразнить его, привлекая к себе внимание.
И, вроде как, ничего дурного не делала.
Вот, путешествовала. Вдове, конечно, путешествовать было не зазорно, но только если с компаньонкой. А Лизавета разъезжала одна.
Это осталось бы незамеченным, но…
Когда Екатерине исполнилось двенадцать, одна из пансионерок, дочка богатого сахаропромышленника Ржищева, привезла с летних каникул «Литературный Журнал для благородных дам и девиц “Синяя птица”», в котором по главам печатался роман, барыней Елизаветой Волошиной писаный.
Роман сей был о девице рода высокого, влюбившейся в человека не слишком подходящего и вынужденной трудом своим поддерживать существование, дабы не скатиться в пучину порока.
– Елизавета Волошина – это ведь твоя мама? – Вечером в спальне девочки окружили ничего не подозревающую Катю. Сама Ржищева крепко прижимала к груди помятое имущество, с трудом отнятое обратно у вдохновившихся чтением товарок.
– Наверное. – Осторожно согласилась Катенька, толком не понимая, чего от нее хотят.
Очень близкой дружбы ни с кем из пансионерок у нее не случилось, хотя и до открытой вражды дело не доходило. Обычно девицы ее игнорировали – бедна, из глуши, в будущем дорога в компаньонки аль гувернантки, либо замуж за такого же мелкопоместного и бедного дворянчика. Невместно с такой секретничать, ни дочери миллионщика, ни тем более, представительнице богатого, обосновавшегося в столице рода, даже если эта представительница там на самой низшей ступени стоит.
– Да точно она, говорю! – Бойкая Анастасия сунула под нос Катерине журнал, открыв его аккурат на той странице, где перед первой главой напечатали портрет автора. Портрет был миниатюрный, модно стилизованный, но вполне узнаваемый. – Я же помню, она приезжала! Такая красивая в голубом дорожном платье… Мы с девочками Волковыми долго спорили, откуда платье – оно же у нее по парижской моде, папенька их маменьке как раз выговаривал, что она похожее заказала и все свое содержание за месяц отдала. А тут у Волошиной! – Настенька фыркнула, демонстрируя все свое презрение и негодование по этому поводу: у какой-то мелкопоместной барыни парижское платье! – Матушка Волковых, когда узнала, хотела требование писать, чтобы тебя из пансиона исключили. Не с вашими доходами такие туалеты приличной женщине покупать, наверняка нечестным путем оно досталось. А оно вон как, она романы пишет!
– Ну, допустим, моя, – сдалась Катя. – И что с того?
– А спроси у нее, чем дело кончится? – Прощебетала пухленькая светловолосая Сашенька, преданно заглядывая в глаза и поглаживая Катенькину ладонь. – Вот напиши матушке и спроси, страсть, как интересно! Неужто так и сгинет?
Девицы нестройно загомонили, выражая обеспокоенность судьбой героини и восхищение талантом Елизаветы Волошиной, которой раньше и кланялись-то исключительно потому как иначе от наставниц можно было наказание получить.
Катерина пообещала матушке отписать, а Ржищева, компенсировавшая низкое происхождение роскошью, тут же сунула ей под подушку плитку настоящего молочного швейцарского шоколада, контрабандой переданной маменькой. Шоколад этот делал Настеньку очень популярной девицей, лакомства хотелось всем, и она им одаряла как милостию, эдаким знаком своей дружбы.
Плитку Катя обнаружила только под утро всю размякшую и потекшую, благо вощеный пергамент удержал шоколад, а то за безобразно испачканные наволочку да простынь непременно бы в карцер отправилась.
Героиня маменькиного романа, в результате, от чахотки померла. Похороны Лизавета Волошина описала очень трогательно и тщательно, и сосновый, плохо струганый гроб, и то, как косматая лошаденка тащила дровни с этим гробом, а за ним и ни шел-то никто, а на крышку падал мокрый холодный снег…
Читая предпоследнюю главу, с этими похоронами, плакали всем пансионом.
А, когда в последней главе на могилу безвременно усопшей явился найденный когда-то ее родителями жених, от которого она бессовестным образом сбежала к недостойному, и долго, прочувствованно рассказывал о любви своей и несбывшейся семейной жизни, то клялись и божились: если папеньки с маменьками их судьбу изволят устраивать, то сопротивляться ни одна не будет.
Жених, кстати, оказался темным некромантусом на государевой службе. Пансионерки очень надеялись, что он подарит своей неверной невесте вторую жизнь, и потом неделю обсуждали, в каком виде. Да не сложилось.
Лизавета Волошина покарала героиню безжалостно, за что ее оченно хвалило как государево управление цензуры, так и Общество Сбережения Добропорядочности.
Сие Общество поразило столицу, назвав произведение Волошиной “крайне поучительным” и рекомендовав его к чтению дамам и девицам нежного возраста, дабы укреплялись в добродетели, радели за благонравие и стойко блюли чистоту…
В журнале же, в следующем номере, опубликовали письма читательниц, впавших в серьезные раздумья и такое же серьезное негодование по поводу злостного отлынивания некромантуса от своих прямых обязанностей – воскрешения невесты и, соответственно, производства ее, так сказать, в супруги.
А через следующем, в ответ на эти письма, ректор Императорской Академии Магических наук разразился пространным спичем: много ругал писательствующих дамочек и экзальтированных читательниц, совершенно не разбирающихся в сложных вопросах некромантии!
Ректор имел честь сообщить, что просто так некромантусы никому-то второго шанса прожить жизнь дать не могут. Вот зомби поднять, аль умертвие, это – пожалуйста. Только для действа сего необходимо, во-первых, государево разрешение (которое государь никогда ради девицы, от чахотки помершей, не даст), а, во-вторых, тщательная подготовка тела поднимаемого.
Щадя нежную нервенную систему дам, ректор тщательную подготовку тела описал скромно, лишь намекнув, что его необходимо избавить от ненужных в посмертном существовании органов и возможности разлагаться естественным путем. Что, в комплексе, сделает супружескую жизнь неприемлемой, хотя супруга-умертвие, полностью послушная воле, была бы и удобна, по его мнению…
– Какое разрешение государя, когда – любовь??? – Писали в ответ ему возмущенные читательницы, и редакция журнала в следующем номере опубликовала выборочно письма и даже фотокарточку, на которой был запечатлен весь объем корреспонденции, пришедшей по этому поводу только за прошедший месяц – аж шесть мешков!
– Какая любовь, когда воняет? – Возражал в следующем номере декан факультета некромантии.
Редакция журнала, не теряя времени, подняла тираж аж в шесть раз. И весь он расходился.
Когда в очередном номере напечатали первую главу второго романа госпожи Волошиной – “Наследник для князя Ярого”, повествующем о тяжелой доле супруги этого самого князя, оболганной его жаждущими отнять место главы рода родственниками, родившей ему сына, которого князь не принял, все экземпляры были раскуплены в первые же часы…
Писательницей госпожа Волошина стала известной. Год спустя, когда князь Ярый в последней главе раскаялся за свое легковерие у смертного одра супруги и нарек сына наследником, сама Императрица призналась, что романы сии читает и считает их полезными как для просвещения юных девиц, так и для вразумления дам замужних. И даже отцам и мужьям их рекомендовала, что вызвало в рядах отцов и мужей некоторое волнение, впрочем, быстро успокоившееся.
По выходу третьего романа, “Замуж за истинного”, рассказывающего, как нежная и добродетельная девица исправляет своей любовью распутного повесу, критики (по большей части тоже литераторы), презрительно писывали, что Елизавета Волошина взяла своим девизом фразу «Свадьба или смерть!», но дамы читали с упоением, за свежим номером «Синей птицы» лакеев посылали прямо к типографии – с ночи, а кто не имел лакея, тот договаривался с газетчиками. Те, за немалую мзду придерживали сокровище.
Катерина, благодаря маменьке, оказалась в пансионе популярна. Девицы старались завести с ней дружбу, просили передать Лизавете Волошиной записочки и засушенные маргаритки.
Пусть на каникулах маменьки и старшие родственницы и выбивали старательно “эту дурь”, а папенька-сахарозаводчик и вовсе грозил заставить съесть эти романы, но тяга к прекрасному была неистребима. С этим смирился даже Ржищев, и в корзиночках со сладостями, передаваемых дочери, стали попадаться небольшие коробочки специально для “мадемуазель Волошиной”.
Елизавета два-три раза в год наведывалась в пансион, одетая “просто”, но по последней моде. Она приносила с собой пьянящий шлейф аромата дальних стран, литературной утонченности, славы и истории “настоящей любви”.
Долгие свидания не разрешались, мадемуазель считала, что излишнее внимание родительниц ослабляет дисциплину, и девицы становятся чересчур сентиментальными. До строгих смолянских правил пансиону было далеко, но реноме “приличного заведения” старательно поддерживалось.
– Не цветочниц учим, – картавя ворчала мадемуазель на собрании классных дам. – Девицы должны уметь подать себя и держаться в обществе.
Классные дамы почтительно склоняли головы, увенчанные строгими пучками…
Мадемуазель обладала потрясающим чутьем на современные веяния. Только-только Петербург начал заболевать новомодным увлечением, называемым лаун-теннис, и молодые дамы взяли в руки плетеные ракетки, как она учредила необязательные, но поощряемые занятия новомодным видом спорта. Учение гигиенистов тоже находило в душе владелицы пансиона поддержку, и она вводила их рекомендации, с ювелирной точностью соединяя новое со старым и находясь всегда в рамках приличий.
Воспитанницы устраивались вполне удачно и писали наставнице теплые письма, что работало лучше любой рекламы. Замуж они чаще всего выходили за купцов или промышленников, или за среднее дворянство, умело вписавшееся в новое деловое общество, где их несломленное постоянными простудами и голодом здоровье да умение разбираться во многих вопросах, пользовались успехом.
Да, о славе Смольного или старых пансионов можно было и не мечтать, но свою нишу француженка заняла и крепенько в ней устроилась…
– Мадемуазель Волошина, никаких поблажек! – Мадемуазель многозначительно пожимала монументальными плечами Юноны – вы должны понимайть, что вы пример для всех воспитанниц!
И уходила, оставляя в помещении стойкий запах духов от “Коти”.
Катенька старалась быть примером. Это было сложно.
Дома, в Малых Шарпенуазах, она не знала ограничений, в которых приличные девицы росли с самого рождения. Манеры-то ей прививали в пансионе весь первый год. Учили молчать, со всем соглашаться, быть милой и показательно нежной.
Выходило, правда, не очень.
Сначала Кате хотелось в играть в салочки или прятки, как дома с дворовой ребятней. Потом, как подросла – спорить с наставницами. Наставницы этими спорами возмущались и советовали брать пример с героинь матушкиных романов. Не в той их, конечно, части, когда героини умирали, а в трепетности их.
– Дикарка, – попрекали девушку наставницы, после очередного спора или шалости. – Мадемуазель, кто вас замуж возьмет с таким характером? Вы ведете себя как невоспитанный мальчишка!
Особенно лютовала строгая мадам, обучавшая основам этикета и приличного барышне поведения. Катины замечания доводили ее до исступления, и только долгий опыт преподавания помогал отбиваться от нападок юного дарования с улыбочкой. В учительской мадам вздыхала, что каждое новое поколение кратно хуже предыдущего и Волошина яркое тому подтверждение.
И нет, нет, да отправляли "дикарку"в карцер для вразумления. Карцер вразумлял не особо, скорее помогал продумать тысячу и один способ не попадаться на шалостях и спорить так, чтобы к словам нельзя было придраться.
Мама же писала письма…
Длинные и теплые.
Рассказывала, что скучает, описывала путешествия, обещала, что вернется в Россию, когда Катя закончит свое обучение в пансионе. Девочка бережно складывала листики в комод и перечитывала вечерами. Она верила, что все именно так и будет.
Она уже не обижалась, как прежде, что та не берет ее с собой, это уже казалось совершенно нормальным. Вон, у половины пансионерок родители не то, что в России, а в самом Петербурге обретаются, через две улицы, а, бывает, видятся с дочерями реже Волошиной.
Спустя некоторое время, после одного из таких краткосрочных визитов наставница вызвала Екатерину к себе и поставила перед фактом
– С завтрашнего дня, мадемуазель Волошина, у вас будут дополнительные занятия по математике, физике, химии, рисовании и этикету. А также стрельба из лука и спортивные упражнения.– И плотно сжала губы, показывая, что обсуждению и обжалованию вердикт не подлежит. – Такова воля вашей маменьки, – добавила она, смягчившись под вопросительным взглядом наставницы, сопровождавшей ученицу. – Я полагаю, мадам Волошина хочет сделать из вас ДОСТОЙНУЮ представительницу фамилии! – Она так выделила голосом слова “достойную”, что Катя сразу поняла, речь идет вовсе не о роде Волошиных…
Кате сразу привиделся жених. Ну а кто еще?
Ей было всего-то шестнадцать лет, и, несмотря на свой «дикий», по словам мадам Фонтанель, характер, как и все юные девушки, она мечтала о любви. Тем более, с такой-то маменькой-писательницей!
Жених привиделся красивый. Она потом долго не могла решить – блондин аль брюнет? С глазами какого цвета?
Из достойного рода… А как иначе?
И она принялась его ждать, с томленьем в сердце и с мечтаньями перед сном.
Когда пансионерки достигали возраста в семнадцать лет, мадам Фонтанель выпускала таких подопечных прогуляться, по набережной ли, или вот, в Летнем саду. Под присмотром наставниц, разумеется.
К тому моменту Катеньке порядком поднадоело ждать жениха, и она сама начала выглядывать его по сторонам, ожидая, когда любовь, о которой так много говорили товарки, наконец, придет к ней…