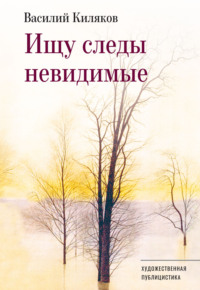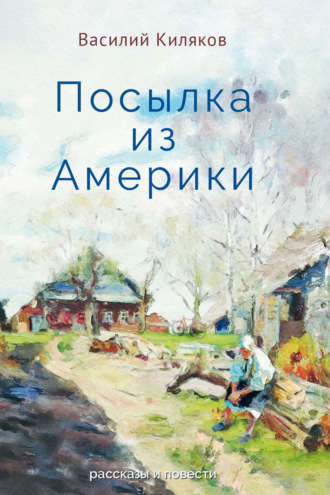
Полная версия
Посылка из Америки
И опять, как вчера, как много дней назад, крепко хлопали друг о друга шары и разбегались в разные стороны.
Первые дни было заметно, что Ивану Дмитриевичу скучновато, и тогда Петр Петрович из кожи вон лез. Он намеренно спешил, натирая мелом кий и себе, и Ивану Дмитриевичу, исполнял мелкие обязанности шута и маркера, пыжился, прицеливаясь, потешно выдувал губы и пучил глаза. И по-прежнему часто и мелко смеялся.
Что заставляло его пасть до постыдного шутовства? Он не задумывался. Да и в этом ли дело… Просто и ему было приятно делать то, что нравилось Ивану Дмитриевичу.
– Быстро же ты делаешь успехи! – сказал ему как-то Иван Дмитриевич.
– Стараю-ся! – и это старомодное «ся» проскрипело как заискивание, и опять стало стыдно.
– А Петр Петрович-то у нас, – сказал вслух Иван Дмитриевич, принимая от него пальто, – от двух бортов бьет в средину так, что за показ деньги брать можно!
– Ну?! – притворно удивился кто-то, мельком взглядывая на Петра Петровича. – Полковник, вы куда?
– В никуда.
– Как это?
– А так: до-мой.
И я домой, Иван Дмитриевич. Подождите, Иван Дмитриевич…
…Ночь Петр Петрович спал дурно: то ему казалось неловко оттого, что он не сказал, не успел сказать Ивану Дмитриевичу что-то очень важное, то вдруг подхватывало и согревало теплое веселье от похвалы, и в ушах стоял чей-то бархатный баритон: «Ну-у». Затем наставал новый день, и вновь Петр Петрович тщательно отыскивал темы и фразы и мило, по-детски радовался каждой, как ему казалось, удачной находке. «А он бы мне ответил вот так… или нет, скорее вот как…» – думал он, и сам бы не мог сказать, откуда бралось то веселое чувство, которое окатывало его с ног до головы. Это было что-то похожее на влюбленность, да он и не хотел вдумываться в это чувство, боясь погубить его размышлениями.
Однажды Петр Петрович, с крупным портфелем под мышкой, в белом халате, время от времени выбивавшемся из-под пальто, с какой-то излишне сосредоточенной серьезностью вошел в один из подъездов своего дома. Поднялся на седьмой этаж и трижды позвонил. Пахло от Петра Петровича коллодием.
– Врач! – сказал он, вытирая ноги и так наклоняя голову, словно собирался бодаться. – Врач. Кто болен? Где больной? – И сунул в протянутые к нему руки свое коверкотовое пальто.
– Врач? Так-так-так… – приветствовал его знакомый голос. Петр Петрович поднял голову. Улыбаясь, держа в руках пальто, перед ним стоял Иван Дмитриевич.
– Вот! – сказал Петр Петрович. – Это вы, Иван Дмитриевич?
– Я, Петр Петрович, как видите, живой, здоровый и даже не поцарапанный, – он зацепил петлю пальто за крючок. – Вот так-то, будьте любезны.
– Да?
– Да!
– Однако не очень и здоровы, как я понимаю? – Петр Петрович снова протер платочком очки. И оба засмеялись: ха-ха-ха, хо-хо-хо!
Битый час Петр Петрович осматривал крупное тело своего дородного друга. Забирал в ладонь мягкую горячую кожу его живота, мял, тискал, вкладывал пальцы в ребра, утонувшие в складках жира. Постукивал по спине. Считая пульс, он неодобрительно поморщился и покрутил головой. Окидывая взглядом всю эту гору мяса, сказал:
– Знаете, Иван Дмитриевич, миленочек, ведь у вас нейродистония и тахикардия страшная.
– Вот?! – удивился Иван Дмитриевич. – Что же, мне жить-то – два понедельника?
И, подумав, добавил:
– Знаете что, оставайтесь-ка у меня!
– Ну?!
– Что «ну»! Ведь я же могу умереть, вы же сами сказали.
– Я так не говорил…
– Нет, вы сказали. Сейчас вы останетесь, и будьте любезны – чай пить.
– А что, и останусь. Вы ведь у меня сегодня последний.
– Да вы и совсем оставайтесь.
– И совсем останусь…
И Петр Петрович поселился у Ивана Дмитриевича. Утром они вместе завтракали по-холостяцки: яишенкой или холодцом, но очень умеренно. Потом до пота и красноты лиц напивались чая с кренделями. И незаметно Петр Петрович перенял у Ивана Дмитриевича поговорку – «будьте любезны». Он говорил так: «Придете, и вот вам чай, будьте любезны. Нет, вдвоем не в пример жить кучерявее» или: «А вот и я, будьте любезны», «Будьте любезны, Иван Дмитриевич!».
Иван Дмитриевич страдал грудной жабой. Болел он давно и неизлечимо, и Петр Петрович, принявший приглашение поселиться у него, принялся ястребом следить за здоровьем больного. Он напускал на себя неприступно-строгое выражение, разбавлял Ивану Дмитриевичу чай, горький, как пиво, и, вконец осмелев, принялся прятать папиросы и спички, чтобы тот не курил. Но Иван Дмитриевич всякий раз находил их и снова жарко раскуривал толстую папиросу, наполняя комнаты душистым дымом папирос «Аида», дым стоял и волновался на кухне от малейшего движения. Этот душистый дым везде преследовал Петра Петровича, и он, к своему тайному удовольствию, пропах им насквозь. Запах ароматного табака не давал ни на минуту забыть о том, что у него есть друг, а значит, и семья, потому что друг был по-настоящему добрый, надежный и большой. Он помнил об этом на улице, в аптеке и дома, в парикмахерской, в бане – везде. Мирно и легко текли дни, и не было им счета.
Здоровье Ивана Дмитриевича шло на поправку.
Только раз Петр Петрович пришел немного взволнованный и сказал с виноватой улыбкой, усаживаясь за обеденный стол:
– Знаете, а меня ведь сегодня на пенсию выгнали!
– Ну! Что вы говорите! – удивился Иван Дмитриевич.
– Да, на пенсию. Теперь я свободен. Свободен, как птица в полете. Совсем, совсем… А так… жаль. А у вас есть семья?
– Есть. Дочь. То ли в Джанкое, то ли в Симферополе, а вернее – то там, то там. И писем не шлет. Вот и заводи их, детей-то…
– А я, знаете ли, всегда как-то был одинок, – тихо, точно сам себе, говорил Петр Петрович. – Всю жизнь. Так вышло. И даже не замечал, не тяготился этим своим одиночеством, пока вот вас не встретил.
За сильными очками Петра Петровича не видно было глаз, и оттого он казался Ивану Дмитриевичу безликим, вроде тех трогательных слабых людишек, каких он так часто встречал за свою жизнь.
– Да-да. Знаю это. Это что-то вроде веры в Бога. Потому-то, может быть, среди одиноких чаще всего встречаются верующие…
– Именно. И еще. Больше всего это присуще, извините, женщинам. Но они ищут опоры в замужестве, а это другое… Вот вы спрашиваете, почему я не был женат. Именно по этой причине: какая, позвольте спросить, из меня опора? Да мне ее хоть самому подавай, да где взять-то?
– Ищут поддержки.
– Да уж, поддержки. А женись я? Разве мог бы я стать поддержкой? Нет-нет…
И опять летели дни, и теперь Петр Петрович поднимался в свою комнату только лишь для того, чтобы поменять что-нибудь из одежды. Так он поменял демисезонное пальто на пиджак, потому что наступило лето, и, прихватив кое-какие книги, спешил скорее, скорее выйти вон. Эти вынужденные возвращения к себе, в свой гардероб, превратились для него в пытку. Слишком много дней, пустых и желтых, провел он в этих четырех стенах, и теперь с неподдельной радостью спускался он и спешил, спешил к Ивану Дмитриевичу, подальше от своего затхлого жилья, пропахшего чем-то стоялым, душным, сыростью начавших уже плесневеть обоев и падающей штукатурки. Он спешил и шептал на ходу в такт шагам:
– Покой, покои, покойник… Покои, покой, покойник…
Он бежал из своих «покоев» к Ивану Дмитриевичу, торопился к его ароматному табачному дыму, к его грубому говору, шумной одышке; и потом из передней с удовольствием слушал притаясь, как Иван Дмитриевич опять и опять говорил сам о себе в третьем лице: «—Иди, генерал!», – или: —«Ешь, генерал!», или – «Вот включу свет (и включал), занавешу шторы (и занавешивал) и лягу спать…»
И так во всем.
После таких вынужденных возвращений в свою комнатушку Петр Петрович особенно остро и радостно сознавал, что он живет, и ему хотелось жить. Да-да, жить, вот так просто и радостно, долго, тысячи лет. Со времени ухода на пенсию он почти не расставался с Иваном Дмитриевичем.
В одно из воскресений, в полдень, Петр Петрович по привычке отпер дверь Ивана Дмитриевича своим ключом, отпер, вошел в квартиру, а Ивана Дмитриевича не было. Не было Ивана Дмитриевича и к вечеру, и к следующей ночи. И на следующий день тоже не было. Удивление Петра Петровича сменилось испугом и, наконец, все возрастающей тоской.
Протолкавшись сутки в толчее больниц, вокзалов и милиций, он оглох от звонков, треска, скрежета и движения толпы. Петр Петрович вконец отупел, очумел, и то и дело принимался дрожать, точно от мороза. Дома он, не раздеваясь, опустился в кресло и затих, задрожал плечами, заплакал навзрыд. Он плакал долго, безутешно, горько и сладостно, сотрясаясь плечами, тряся сухой породистой головой и разводя руками, да так и уснул весь в слезах. А очнулся внезапно оттого, что весело и чудесно затрещал вдруг в прихожей звонок и кто-то знакомо крякнул. Сердце Петра Петровича встрепенулось, прыгнуло, и он перевел взгляд с окна на дверь. Звонок повторился, когда он уже с бьющимся сердцем и дрожащими руками, улыбаясь сквозь слезы, распахивал дверь. Против него стоял почтальон, весь черный, как цыган или трубочист, в черном же костюме, с черными волосами и черными, врозь поставленными, словно с чужого лица, глазами. Он молча протянул телеграмму и дал Петру Петровичу расписаться в потрепанной книжечке, которую Петр Петрович так же молча подмахнул, и влепился взглядом в телеграмму… Трепетной рукой сорвал он бумажную ленточку и, задержав дыхание, переводил глаза со строчки на строчку: «Срочно выезжаю дочери». Адрес указывал: Мелитополь, проездом.
Всё…
Слова, которые он прочел, были будто сказаны голосом Ивана Дмитриевича.
Комната еще хранила тот уютный беспорядок, который всюду оставлял после себя Иван Дмитриевич. Там и сям лежали его недочитанные газеты, вещи как будто хранили запах его ароматного табака, прихожая – его бас. Точно он гудел еще, тот грудной тембр: «Будьте любезны…» А сам он?.. Где он был сам? Отъезжал от какого-то чужого Симферополя, белокаменного, со шпилем башни вокзала, далекого, жаркого, ненужного.
Петр Петрович ничего не хотел знать, он знал только то, что он остался один, совсем один. Даже больше, чем один, потому что когда не было никого, то совсем не хотелось верить в то, что кто-то и где-то живет полной грудью, весело и счастливо. «А как же одиноким-то жить? А как же?..»
Он встал и стал быстро-быстро писать письмо. Рука дрожала и торопилась, словно была не своя, а чужая. Петр Петрович несколько раз рвал то, что писал, и пихал в разные карманы пиджака и брюк. И когда письмо наконец было готово, Петр Петрович прочитал его вполслуха и не сдержал грустной улыбки: письмо получилось такое, какое нужно, строгое, ласковое и убедительное. Все в нем сводилось к одному: «Возвращайся». Петр Петрович слабо улыбнулся, когда представил, с каким удивлением будет читать это письмо Иван Дмитриевич, как округлятся его глаза, затем разойдутся в улыбке щеки, растянется рот и, наконец, он погладит себя по плеши, как он делал всегда, когда волновался.
До самого почтамта Петр Петрович не спускал с лица улыбки. Он почти не сомневался теперь, что Иван Дмитриевич вернется, непременно вернется, уж теперь-то наверняка.
– С уведомлением, – сказал Петр Петрович, протягивая конверт, и только тут вспомнил, что не знает адреса.
«Мелитополь, – стучало в голове, – Мелитополь!» Струна, поддерживавшая его существование, лопнула.
В одну минуту он перестал видеть и слышать. Он видел только широкий пустой зал почтамта, насквозь пропитанный теплым сквознячком калориферов.
Два дня он не спал, не ел. На третий его видели в бильярдной с трясущимися руками и сиротским лицом. Он сидел в уголке и смотрел из-под сильных очков на входную дверь, смотрел неотрывно. Чудилось ему, что вот-вот войдет Иван Дмитриевич, гордо неся впереди себя брюшко, и скажет громко: «Во, задержался… А в Мелитополе-то тридцать два – для интересу!»
Хлопнула дверь, Петр Петрович вздрогнул. Вошел незнакомый, и Петр Петрович ясно понял вдруг, что не помнит отчетливо Ивана Дмитриевича и не может представить теперь его таким, каким видел много-много раз. Он помнил голос, помнил его шинель и больше ничего. И когда пытался представить себе Ивана Дмитриевича, то получалось, что разговаривал он с его широкой спиной, – и чтобы вернуть в память Ивана Дмитриевича, Петр Петрович вернулся в его квартиру, влез в его шинель и прошелся в ней туда-сюда, время от времени заглядывая в зеркало, но так как он при этом очень волновался, то так и не воскресил Ивана Дмитриевича в памяти. Он повторял его жесты, походку, движения рук и голос:
– Ходи, генерал! Хм-м, ма-ма-м… Ешь, генерал. Гм-хрр, смотри, генерал… Нет, не то, совсем не то! Ходи, генерал, будьте любезны!
Захотелось покашлять, и он покашлял – и вздрогнул, так сухо и непривычно отозвался его кашель в пустых комнатах… Потом снял очки и долго-долго протирал их платочком, то очки, то глаза.
…В городе Мелитополе появился сумасшедший. Это был будто бы худенький, слабый человек, старый и седенький, с высоко подрезанными височками. И выглядел он нелепо: маленький, в широченной, с чужого плеча, шинели, с тремя крупными звездами на погонах. Пуговицы этой шинели будто бы взялись от времени и влаги зеленой ярью.
Но больше всего удивляло то, что в руках он носил… кий. Обычный кий, но носил он его осторожно – как носят заряженное ружье. Почему кий? Зачем кий, а не какой-нибудь посох или трость? Этого никто не знал.
Человек этот останавливал прохожих и, извиняясь, приподнимал шляпу. Затем доставал из-за пазухи сложенный вчетверо лист телеграммы и, водя по ней пальцем, спрашивал, не видел ли кто некоего Ивана Дмитриевича Кошепьяна…
– Такой плечистый, видный мужчина. Такой… Его трудно не заметить, и лицо у него такое, такое… И одышка еще вот так: хх-о… – и маленький смешной человек показывал, как дышит воображаемый Иван Дмитриевич…
Прохожие спешили от него, не оглядываясь.
Однако он все же оказался в психиатрической клинике и был тщательно и придирчиво выслушан и выпущен со строгим наказом одеться прилично и вести себя с достоинством, как подобает нормальному человеку, а тем более в прошлом – врачу.
– Иди, иди, – сказала ему кастелянша, – иди, Кошепьян! – и проводила его до дверей. – Ишь, хрущ какой, а еще седой, чучело! – И поспешно, с оглядкой скрылась за простенком коридора.
В этот день ярко светило по-осеннему холодное солнце и было зябко. То ли от этой текущей мимо людской толпы, то ли от высокого негреющего солнца, но маленький седенький человек в шинели поежился. Трещали трамваи. По-прежнему подходили поезда к вокзалу, сменяли друг друга автобусы на остановках, выплескивая на площадь и тротуары толпы народа. И шел, шел этот народ куда-то в молчаливой спешке, спешке на месте. Старухи торговали помидорами, грецкими орехами. Хлопали и переходили из рук в руки двери магазинов. Толпа шла молчаливо и нестройно, как разбитая армия. И эта страшная свобода среди множества безликих существ, когда можно бормотать что хочешь, показывать язык, декламировать стихи, и никто не услышит, не придаст этому значения; можно строить рожи, прыгать на одной ноге или топать ногами, – эта странная и страшная свобода уже не поражала Петра Петровича. Это самое изумительное из одиночеств – одиночество в толпе. Кажется, что толпа не идет, а плывет над землей, подталкивает плечами, раскрывает, расталкивает перед тобой проспекты, заставляет видеть то, что читает она: те же проспекты, аншлаги, вывески и объявления. Читать те же газеты, что и она. Толпа берёт от тебя часть твоей жизни, и топит ее в общем котле, заставляет терпеть и спокойно мириться со всем тем, что тебе открывают и показывают. И это ощущение одинокой общности со всеми вдруг совершенно излечило маленького седенького человечка в роговых очках. И толпа великодушно приняла его, медленно, шаг за шагом спустила с крыльца, наступая на волочащуюся по ступеням шинель… Толпа скрыла и потопила его, и никто не замечал странного вида этого маленького человека, ни букового кия в его руках, ни измученного, бледного, растерянного лица. Лишь психиатр, тот самый врач, что четыре часа беседовал с ним, глядел теперь ему вслед из окна своего кабинета. Но и его внимание отвлекла вялая осенняя муха, долго выбиравшая, куда бы ей сесть на подоконнике. Психиатр без труда раздавил ее пальцем, а когда поднял голову, то уже не смог различить своего недавнего пациента в десятках других людей, снующих взад и вперед.
Голова Петра Петровича скрылась за другими головами, а плечи широкой шинели потонули за другими плечами.
Вот уже и совсем его не стало видно. Теперь уже навсегда.
Голубых кровей
Поздним осенним вечером я возвращался с охоты домой. Было холодно. Дали затянуло непроглядной водяной сеткой. Грязь ошметками отлетала с моих несокрушимых яловых сапог. Слева от меня густая стена хвойного леса с мелким подлеском; справа – пустошь, выбитая скотиной. В лесу работал ветер: сосны гудели, скрипели, качались… Все живое точно вымерло.
Сумерки сгущались, наполнялись темнотой, и все окрест становилось мрачнее и безотрадней. Крупными хлопьями повалил снег. Чувствовалось, что не сегодня-завтра ударят морозы, наступит зима.
Меня колотило крупной нутряной дрожью. Окоченели пальцы рук и ног, а до разъезда нужно было тащиться часа два-три. Я решил зайти к товарищу детства, Артамону Нохонову. «Заночую, – решил я, – а утром встану с рассветом и с первой электричкой домой укачу».
Крупный деловой лес сменился непролазным мелколесьем и горелым сушняком. Пахло гарью, перебродившим гнилым листом. Показалась с детства знакомая тропинка с заросшими колеями, еле различимыми следами копыт. Когда-то здесь проходила лесная дорога.
Я свернул на коровий прогон и скоро увидел там, впереди, крыши домов и редкие, как в парной бане, радужные огоньки, – увидел и обрадовался несказанно! Казалось, что я не был здесь целую вечность, невольно прибавил шагу, точно кто-то ждал меня в деревне.
Вот уже кончился чапыжник, трухлявые пни, поросшие метлицей, показался деревянный мост через овраг. И вспомнилось вдруг, как на дне этого оврага, у родниковой звонкой речки пекли с Артамоном картошку на костре, ловили колосной кошелкой пескарей и вьюнов. И как-то особенно явственно пришла на ум частушка, ее часто певал мой друг:
Купил новые портки —Ко мне девки привязались:«Что за брюки, покажи!»Напевая мысленно частушку, вошел я в деревню и увидел вместо пятого дома с краю заросли густой лебеды и глухой крапивы – все, что осталось от родного дома, сгоревшего в сорок втором в разрыве артиллерийского снаряда. Помню, приехал на побывку с фронта и увидал вместо родного гнезда – прах. Мать тогда жила в примаках у соседей. Я отворил калитку соседского дома, она мыла над бадьей пожелтевшую, бывшую когда-то белой овчины кацавейку… Увидела меня, охнула, прижала руки к груди, отступила на шаг, потом кинулась ко мне: «Гена!» – «Мама!»… Все это так живо встало в памяти, что я невольно остановился. Норовил разглядеть что-то среди полыни, но было уже и совсем темно, лишь виднелся мокрый снег и яма вкруг обгоревшего бревна. Я отвернулся, тяжелые чувства сдавили горло. Пошел по деревне, спотыкаясь на колеях. В густом сумраке послышались стук ведра о колодец и женские голоса с тем певучим и акающим говорком, каким до сих пор говорят по российским весям. Подошел, спросил:
– Где живет Артамон Нохонов?
Женщина в телогрейке показала на высокий дом с коньком и ярко освещенными окнами. Я двинулся вперед, не разбирая дороги. До слуха долетело:
– Это чей мужик-то?
– Кто его знает! Ишь, шаты-шатает по лесу…
«В родном селе не признали», – с грустью подумалось мне. С трудом перевалил я расквашенную осенними дождями и тракторами дорогу, остановился в нерешительности перед окнами Нохоновых. Захлебываясь от злобы, хрипло забрехала собака, загремела длинной цепью и неожиданно подкатилась мне под ноги – казалось, разорвала бы в клочки. К счастью, вышел хозяин на крыльцо, крикнул срывающимся альтом: «Отрыжь!»
– Проходи, не бойсь… Он не укусит, смиренный. Так, для острастки брешет, поганец, – Артамон говорил гостеприимно, внимательно приглядываясь и не узнавая меня.
Взойдя на крыльцо, я проговорил, волнуясь:
– Здорово, друг ситцевый!
Он смотрел на меня прищурясь, потом порывисто обнял за плечи. Руки у него были жесткие, мозолистые – прежние, а щеки небритые…
В сенях ярко светила лампочка. Артамон стащил с меня ружье, задубевший от холода и сырости балахон и, увидев привязанного к поясу зайца с запекшейся кровью на шерсти, кинул на него быстрый боковой взгляд.
– Заходи, ужинать будем, – сказал он армейской скороговоркой, поспешая в горницу.
Эта резкая перемена его настроения поразила меня как гром. «Что-то нехорошо посмотрел Артамошка, – подумалось мне, когда я стягивал нога об ногу размокшие сапоги, – То ли не рад, то ли переменился к старости». В кухне я остановился у печи под полатями. Мокрые брюки оставляли грязные полосы.
– Здравствуйте, Геннадий Ильич! – пропела, подходя ко мне, жена Артамона, ладная, моложавая еще женщина, с высокой прической и крупной грудью. – Сразу и не узнаешь тебя. Так-то на улице встретились бы да разошлись? Проходи, гость дорогой, садись к столу. Артамон, кинь-ка там из сундука портки сухие.
В горнице было домовито, чисто. Во всем чувствовалась прилежная женская рука. Пахло свежими сосновыми бревнами, мхом и краской. Дарья засыпала меня вопросами, вспоминала прежние годы, смеялась и ухаживала за мной, как пристало бы и родной сестре.
– Соловья баснями не кормят, – подмигнул Артамон. – Беги-ка, Дарьюшка, в сельмаг за «блондиночкой». Пригубим по рюмашке, вот и будет хорошо!
– Поспеешь, дай наговориться-то всласть!
– Надо царапнуть по черепушке, дерябнуть, тогда и спрашивать, – шутил Артамон. – Что он тебе на сухую-то растолкует?
Дарья спорить не горазда, сняла с вешалки сак и ушла.
– Бабы, они бабы и есть, – говорил со смущенной улыбкой Артамон. – Возьми хоть мою: поболтать – хлебом не корми…
Мы курили крепчайший самосад, говорили сдержанно, толково. И Артамон уже не казался мне таким позабытым, строгим, как в начале встречи. Отогрелся я, отошел душой в уютной горнице друга. Мельком взглянул на печку – заметил две детские головенки, выглядывающие из-под цветастой занавески. Артамон перехватил мой взгляд и начал рассказывать с обидой на свою дочь:
– Оба Наташкины, дочки моей… Она, бесстыдница, зад об зад со своим Ванькой и – кто дальше. Сама, халява, хвост морковкой и в город залилась. И – диво дивное, – домой не дозовешься! А позволь спросить, чего она забыла в городе-то? Да у нас в Ольховке летом рай! И лес, и речка, сады при каждом доме… Ребятишки ждут, спрашивают про мать, а что я им скажу, а?
Я из-под руки глянул на своего друга, и жалость забрала: пожелтел, высох… А он тихим, трогательным голосом продолжал.
– И Ванька, мужик Наташкин, как выпимши – ко мне прется. Придет и к ребятам со слезами. Пла-ачет, горюн, рекой разливается. Я, гырьт, Наташку по гроб жизни не забуду и детишек себе заберу. А куда заберет-то? Ведь порток сам себе не простирает. В доме беспорядок: грязь, хлам, стыд сказать, что такое! Солдат с винтовкой пропадет. Вот какие, брат, дела-то… – беспрестанно кашляя и вздыхая, заключил Артамон. – Если так и дальше пойдет, ты, Гена, одного друга недосчитаешься.
Папироса дрожала в его руке, он не мог говорить.
– Тебя?
– Меня!
– А что такое?
– Хвораю ведь я, давно, слышь-ка, хвораю…
– Да ну тебя к богу в рай. Крепче будь!
Хлопнула дверь в сенцах, вошла Дарья и позвала Артамона в кухню. Густо запахло варевом, луком и еще чем-то сложным, острым. Тяжелая люстра, точно большая перевернутая вверх дном тарелка, ярко освещала горницу. В простенке блестели глянцем фотографии в рамках красного дерева, а в переднем углу висела на кнопках картина, напомнившая мне детство: дети стоят у костра и варят картошку в щербатом чугунчике. Рядом с костром куча хвороста. Малиновое пламя озаряет лица, ситцевые рубашонки, босые ноги, утопающие в мураве. От этой лубочной картины, намалеванной когда-то Артамоном, повеяло чем-то близким и до боли родным. Напротив, у окон, грузной горкой распласталась деревянная кровать, убранная со вкусом, – так и хотелось тотчас, не ужиная, развалиться на ней. Над кроватью – ковер кирпично-красных и зеленых шерстей… И я подумал, что Артамон живет, в общем-то, хорошо, крепко живет. Так в чем же дело? Только ли в дочери?
Стало скучно сидеть одному в горнице. Дарья и Артамон торопились, готовили ужин. Тут я вспомнил о зайце, убитом на охоте, и решил освежевать его. Вышел в сенцы, привязал лапки к решетнику и довольно долго снимал шкурку, старательно подрезая тонкие белые спленки. Потом единым махом распустил брюшко повдоль, и лиловые кишки влажно заблестели под лампочкой. Молодой заяц оказался на редкость жирным, сочным. Шкурку я отнес в уголок, сбой сложил в ведерко и вошел на кухню с тушкой. Дарья хлопотала у печи, Артамон сидел на лавке и резал на колесики соленые огурцы-корнишоны над большой разлатой тарелкой. С чувством бахвальства, присущим каждому охотнику, я подошел к Артамону, поднес зайца к глазам и сказал: