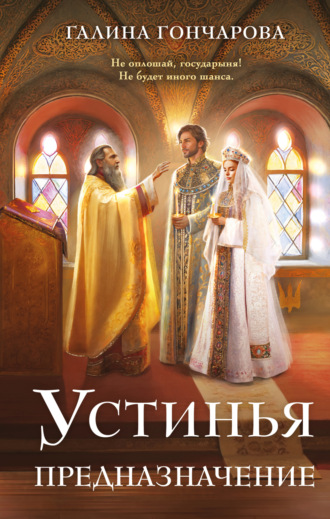
Полная версия
Устинья. Предназначение
Как только смела она, гадина!
И выглядит счастливой, видела ее Аксинья несколько раз в коридорах! Идет, аж светится изнутри, когда одна, не так еще, а ежели с мужем, так и вовсе хоть ты ее на небо выкатывай вместо солнышка. И платье на ней дорогое, хоть и скромное, и украшения царские, и… и не бьет ее муж, это Аксинье сразу видно.
Теперь видно.
Ей-то от Федора доставалось частенько, не по лицу, конечно, но за косу ее таскали, шлепки и щипки сыпались постоянно, да и остальное все…
Не знала Аксинья, что долг супружеский – это больно так. С Михайлой что было, оно только в радость случалось, но ведь не скажешь о таком Федору-то?
Нет, никак не скажешь!
Михайлу она ненавидела, но что пришел он – хорошо, сейчас хоть Федора уведет… может быть.
И верно.
– Мин жель, на Лембергской улице танцы сегодня, не желаешь пойти? До утра веселье будет, скоморохи из другого города приехали с медведем дрессированным, борьбу показывают, потом еще бои собачьи будут… развеемся?
Федор подумал недолго.
– И то. Сейчас платье сменю, да и поедем с тобой, прикажи покамест возок заложить.
Михайла поклонился да и вон вышел, на Аксинью и не посмотрел даже… Скотина!
Аксинья и сама не знала, чего ей больше хочется. Чтобы посмотрел? Чтобы сказал слово ласковое? Или забыть его навсегда?
Одно уж точно верно: она теперь жена чужая, невместно ей на другого глядеть. А сердце болит, раненым зверем воет, стоном заходится…
Очнулась она от рывка за косу.
– Ай!
Федор уж рыжую прядь намотал на руку, улыбался недобро.
– Мужа не слышать? Иди сюда, порадуй меня перед уходом…
Толчок в спину – и летит Аксинья лицом вниз на кровать, чувствует, как грубые руки юбку задрали… только сердце все одно болит сильнее.
Мишенька…
За что ты со мной так?!
Во всем ты и Устинья виноваты!!!
* * *– Батюшка, это Заболоцкая во всем виновата! Понимаешь, она, и только она!
– Сиди, дурища!
Боярин Мышкин на дочь свою гневно покосился, брови сдвинул. Вивея вновь слезами улилась, так и брызнули они в разные стороны.
Да-да, Вивея!
Государь, конечно, про монастырь сказал, а только легко ли чадо свое, любимое, кровное, на вечное заточение отдать? Вот и такое бывает ведь!
Больше всех из детей своих любил боярин Мышкин младшую доченьку, Вивеюшку!
Любил, обожал, баловал безмерно, ни в чем отказа не знало дитятко избалованное, по золоту ходила, с золота ела-пила! И себя считала самой лучшей, самой достойной…
А кого ж еще-то?
Когда на нее выбор пал, когда на отбор ее пригласили, Вивея и не задумалась даже, все как до́лжное восприняла. Ясно же! Она достойна!
А вот когда начали ей объяснять, чего она достойна… Ладно бы слова злые! Их Вивея и не слышала никогда, мало ли что завистники болтают! Но…
Как пережить, когда на НЕЕ, вот самую-самую, лучшую и потрясающую, прекрасную и удивительную, даже внимания не обращают! Устинья Заболоцкая, поди ж ты, царевичу нравится! А Вивея… Это кому сказать!
Вивею выбрали, потому что она немного на Устинью похожа!!!
Это уж потом узнала девушка, и такая черная желчь в ней вскипела…
Она!!!
ПОХОЖА!!!
Да это Устинья на нее похожа, и вообще… как такое может быть?!
Это других девушек должны с Вивеей сравнивать и головой качать, мол, хороши вы, да куда вам до совершенства-то?!
И царевич должен был сразу же на Вивее жениться, вот как увидит ее! На колени пасть, руку и сердце предложить…
А ее не поняли!
Обидели!!!
Да что там, оскорбили смертельно! За собой Вивея и вины-то никакой не чувствовала, она справедливость восстанавливала. Вот и отец на нее не за боярышень отравленных ругался, что ему те дурищи?! Досталось Вивее за то, что попалась она по-глупому! Когда б не уличили ее, так и пусть их, не жалко! Но как так сделать можно было, и чтобы яд не подействовал, и чтобы сама Вивея попалась?!
Дома отругал ее боярин, мать за косу оттаскала, да тем все и кончилось бы…
Государь с чего-то взъярился!
Казалось бы, какое Борису дело до идиоток разных! Ан нет! Приказали Вивею в монастырь определить, да как можно скорее… Разве мог боярин Фома с чадом своим любимым так-то поступить?
Да никогда!
В монастырь холопка отправилась.
Той и денег дали достаточно, и семью ее отпустили на волю, и им заплатили… Будет другая девица в монастыре сидеть, говорить всем, что она Вивея Мышкина, а сама Вивея…
О ней боярин тоже подумал.
Чуть позднее договорится он с кем надобно, будет не Вивея Мышкина, а скажем, Вера Мышкина, племянница его дальняя. Тогда и замуж ее выдать получится, и приданое он хорошее даст.
А покамест сидеть Вивее в тереме да молчать.
И все б хорошо вышло, да только…
– Как – женился?!
Когда Федора с Аксиньей Заболоцкой венчали, от души злорадствовала Вивея.
Что, Устька, и тебе не обломилось тут? Широко шагнула, юбку порвала? Не по чину рот открыла?
Вот и поделом тебе, дурище! Не бывать тебе царевною, смотри на сестру свою да завидуй ей смертно! Другого-то Вивея и представить себе не могла, и такие уж сладкие картины выходили… тут и дома посидеть не жалко.
А потом другая весточка пришла.
Боярин Фома с круглыми глазами домой явился.
Женился государь Борис Иоаннович! На Устинье Заболоцкой женился! Говорят, братца его едва откачали, мачеха в крик… Разброд и шатание в семье государевой! А Борис и ничего так, доволен всем.
Тут уж и Вивее поплохело от всей души ее завистливой.
ЦАРИЦА?!
Да как Господь-то такое допускает?! Да это ж… да так же…
Вот тут и понял боярин Фома, что такое припадок, хоть ты священника зови да бесов отчитывай! Малым не сутки орала в возмущении Вивея, рыдала, в конвульсиях билась, уж потом просто сил у тела ее не хватило, упала она, где и кричала. Весь терем дух перевел…
А когда открыла Вивея глаза, хорошо, что никто туда не заглядывал, в душу ее. Потому что поселилась в ней черная, смертная ненависть. Жуткая и лютая. И направлена она была на Устинью Заболоцкую, на… соперницу?
Нет, не думала больше Вивея о ней как о сопернице. Только как о враге лютом, во всем Устинью винила. Как увидела б – кинулась, вцепилась в глотку…
Только об одном молилась Вивея: о возможности отомстить! Господь милостив, Он ей обязательно поможет! А когда нет…
Рогатый не откажет!
* * *Михайла ел, пил, пел, с девушками танцевал, смеялся…
Праздновал, да никто и не сказал бы, что волком выть и ему хочется. Сейчас удрал бы в снега, голову задрал да и излил бы так душу, чтоб из ближайшего леса все разбойники серые сбежали.
У-у-у-у-усти-и-и-инья-а-а-а-а-а-а-а!
Видел ее Михайла во дворце и сразу сказать мог – счастлива она.
До безумия, искренне… Неужто о Борисе говорила она?!
Неужто его любила?!
И ведь не за венец царский, не за золото, не за жемчуга и парчу, не за власть любит, это понимал он куда как лучше Федора. Тот бурчал, что позарилась Устинья на трон царский, да только глупости все это, не смотрят так на ступеньку к трону. А она на Бориса именно что смотрит, Михайла об искре единой в ее глазах мечтал как о чуде, а тут… дождался сияния, только не к Михайле оно обращено. Устинья потому глаз и не поднимает почти, чтобы никто в них света не видел, бешеного, искристого… Она когда на мужа смотрит, у нее лицо совсем другим становится. Не просто любовь это – невероятная нежность. Никогда она на Михайлу не посмотрит так-то.
Но и вовсе дураком Михайла не был, понимал: готовится что-то…
А когда так, выгоды он своей не упустит.
Пусть гуляют все и веселятся. Глубоко за полночь, оставив Федора в руках профессионально услужливой красотки, отправился Михайла по своим делам.
К ювелиру.
Старый Исаак Альцман на всю Ладогу славился, а жил неподалеку, на Джерманской улице. К нему Михайла и постучал, да не просто так, а заранее вызнанным условным стуком, в заднюю дверь.
Долго ждать не пришлось, почти сразу засов открылся.
– Юноша? Чего надо?
Михайла улыбнулся залихватски, ладонь открытую протянул, а на ней камешек. Зеленый такой, искрой просверкивает. Других рекомендаций и не потребовалось.
– Заходи.
Через десять минут сидели они друг напротив друга, за столом, и ювелир осматривал выложенные на стол три камня. Больше Михайла взять побоялся, потом еще принесет.
Исаак разглядывал камни, думал.
Потом качнул головой:
– Могу дать по три сотни рублей за камень. Каждый.
Михайла только брови поднял:
– Сколько?!
Цена была грабительская. Мягко говоря.
– А сколько ты хочешь? Десять тысяч серебром за каждый? Ха![7]
– Да неужели? – Цены Михайла представлял и знал, что изумруды до́роги, три сотни – это уж вовсе чушь…
– Я эти камни знаю. И знаю, кто покупал их у меня. Так что… готов принять камешки обратно. Три сотни за доставку да остальное за сохранение тайны боярина.
У Михайлы в глазах потемнело.
А и правда, мог же догадаться, что он… что его…
Ижорский, тварь, здесь камни и покупал?!
Исаак усмехнулся, это и стало спусковым крючком. Михайла резко подался вперед, нож в руке сам собой появился… и разрез на горле у Исаака – тоже.
Кровь на камни хлынула.
Михайла отстранился, чтобы не запачкало его, убивать-то и вовсе не страшно… камни вот испачкал… кончиками пальцев взять их, вытереть о рубаху умирающего ювелира, быстро дом осмотреть… Исаак – не боярин Ижорский, его ухоронку Михайле найти не удалось, но кое-чем все ж парень поживился.
Жалко, конечно, но серебро ему нелишнее, а что до остального… сбудет он камни с рук, но не на Ладоге. Есть у него на первое время деньги, а там видно будет.
* * *Кого не ожидала увидеть у себя Устинья, так это Анфису Утятьеву.
А ведь пробилась как-то, стоит, улыбается.
– Поговорить бы нам, государыня.
Пролазливость уважения заслуживала, оттого Устинья и не отказала сразу. Это ж надобно извернуться, в палаты царские пройти, ее найти, время подгадать – все смогла боярышня, впусте так стараться не будешь!
– О чем ты поговорить хочешь, боярышня?
– Аникита считает, что хочу я тебя попросить. Свадьба у нас скоро, когда б государь согласился хоть заглянуть – сама понимаешь, честь великая.
– Честь. – Устя была уверена, что ради такого Анфиса бы унижаться не стала. Боярина Репьева попросила, ему б государь не отказал.
Боярышня вокруг огляделась.
– Точно не услышит никто нас? Очень уж дело такое… нехорошее.
И столько всего в ее голосе было: тут и нежелание связываться, и сомнение, и решимость – поверила Устя боярышне. И дело нехорошее, и делать его надо.
– Пойдем…
Устя боярышню провела в горницу, в которой, она точно знала, ни ходов, ни глазков не было, у окна встала, проверила, что внизу да рядом нет никого.
– Только тихо говори.
– Есть на Лембергской улице такая травница, Сара Беккер.
Устинья аж дернулась, ровно ее иголкой ткнули.
– Откуда ты ее знаешь?!
– Притирания она хорошие делает, мази, я их покупаю.
Рассказывала Анфиса быстро и толково. И видя, как бледнеет, леденеет лицо Устиньи, понимала – правильно сделала. Очень все вовремя.
Анфиса замолчала, Устинья обняла ее, с руки кольцо с лалом стянула, Анфисе протянула:
– Прими, не побрезгуй. И Борю уговорю я к вам на свадьбу быть, и… обязана я тебе. Не забуду о том вовек.
Анфиса кольцо примерила, на Устинью покосилась:
– Ты, боярышня… то есть государыня…
– Устиньей зови, Устей можно. И ты мне тоже не нравишься.
Анфиса фыркнула.
А в голове у нее другие мысли крутились. Когда у Устиньи ребеночек появится да у них… Друг государев вроде и не чин, а почище иного звания будет.
Это так, на будущее заявка, но о ней помолчит пока Анфиса. И навязчивой не будет.
– Мне присутствия государя хватит, пусть ненадолго, все одно почетно. А остальное… Ты мне тоже не нравишься, только эти бабы еще противнее.
Устя ухмыльнулась:
– Спасибо тебе, боярышня Анфиса. Не забуду.
Она тоже много чего понимала. И молчала. Так надежнее. А с Борисом она в тот же вечер поговорила, всего не рассказывала, попросила просто за Анфису с Аникитой.
Борис быть обещался.
Ежели супруга желает, побывает он на свадьбе у Аникиты Репьева и подарок молодым сделает – землю, хороший надел, и пусть жена дружит, с кем пожелает. Помнит он боярышню Утятьеву, та вроде как не дура. Пусть ее…
* * *– Илюшка им наш понадобился… – Агафья Пантелеевна так выглядела, что, попадись ей Любава, от страха бы померла ведьма проклятая!
– Не просто так, к новолунию. Чего они заспешили так?
– Причина, значит, есть. А еще… не забывай, ребенок все из матери сосет, тем паче такой, ритуальный. А ведь Федор тоже к супруге присосался, они первой ее кровью связаны, брачными обетами, а может, и еще чего было, Аксинья-то не скажет, если вообще узнает.
Устя только вздохнула.
Первая кровь – она такая, имея ее, много чего с девкой сделать можно.
Может, и с ней сделали во времена оны.
Привязали ее покрепче к Федору, тому сила доставалась, а ей – все откаты за его пакости, вот и ходила она ровно чумная. А там еще и Марина добавилась… не узнать сейчас, да и узнавать не хочется, а надобно. И Илье все рассказать тоже.
– Слушаю – и дурно мне становится, – Илья едва за голову не схватился. – Ритуалы, жертвоприношения… Хорошо хоть Машенька с Варюшкой им не понадобились!
– Им бы и не угрожало ничего, – отмахнулась Устинья, – не родня они нам, непригодны для ритуалов. Хотя… могли бы их использовать, чтобы тебя выманить.
– Так мы им и позволили, – Божедар удивился даже. – Илью я учить взялся не для того, чтобы его всякая пакость одолеть могла!
– Так, может, и позволить им? – Добряна веточку березовую меж пальцами крутила, вроде и зима на дворе, а на ветке – листочки зеленые, точь-в-точь как у той, что на Устиньиной ладошке расцвела… – Тогда мы и поймать их сможем, и разобраться, как положено, и никто нам слова поперек не скажет.
– Хм-м-м… – Агафья задумалась. – А в чем-то и права ты. Что мы сейчас сделать можем, что у нас есть? Книга Черная? Так ее не уничтожишь, пока хоть один из рода жив, восстановится, напишут ее заново. Сара эта Беккер? Так ведь ее и схватить нельзя, она царю никто, не подданная она его. Мамаша ведь от нее отказалась, а отец ее так подданным Лемберга и остался, только тронь, вонь на весь мир пойдет. И то… в чем ее обвинишь? Что травница она – так не противозаконно, а что ведьма, еще доказать надобно, на государя не умышляет она…
– А ритуал?
– Так он не во вред Борису проводится, а на пользу Федору. Что плохого, что у царевича наследник появится? И… никто ж не погиб, не пострадал, даже и собираются они Илью в жертву приносить, так ведь не докажешь…
– Когда принесут – поздно будет.
– А вот бы нам с боярином Репьевым и поговорить, чтобы схватить их на месте преступления. Потому как иначе нам их не связать. Сара из Лемберга, дочь ее боярыня Пронская, Боярская дума на дыбы встанет, я уж о царице молчу, о сыночке ее…
– Сын там как раз и не обязателен. Аксинья – может быть, и то ведьмам крови ее за глаза хватит, знаю я о таком. Тут главное, чтобы меж Федором и Аксиньей в ту же ночь все случилось, а где именно они при этом будут – неважно!
Устя лоб потерла.
– Так что делаем-то?
– Нам бы подошло, когда Илью похитят, да желательно в тот же день, чтобы ни опоить не успели, ни еще как напакостить, чтобы не было у них времени. До ритуала он им живой нужен, да не обязательно в своем разуме. А как начался бы ритуал, так мы бы по-тихому и накрыли всех. – Божедар дураком не был, не командовал бы он иначе своей ватагой. – И шум нам не обязателен. Были люди, да и пропали, как и не было их никогда.
Устинья и не подумала хоть кого пожалеть.
– Искать их будут.
– Пусть ищут. Ладога – река глубокая, течение быстрое, а что с телами сделать, чтобы не всплыли, – то моя забота.
– И мне такой план нравится. Только нет ли чего… чтобы не могли они меня одурманить? – Илья тоже прятаться не хотел. Отец – он ведь тоже подходит, а одолеть его куда как легче. Достать сложнее, ну так… и похитить можно, и в Ладогу привезти – он бы с задачей этой справился.
Добряна головой качнула.
– Ежели б о простых людях речь, а то ведьмы. Всего я предусмотреть не смогу, от всех клинков щитов не придумать.
– Могут и просто по голове дать, – Устя кивнула согласно. – Им ты для ритуала нужен живым, а вот здоровым ли?
– Здоровым, – Агафья фыркнула. – И в сознании полном, это я точно знаю. Жертва чувствовать должна, понимать, что происходит.
– А когда б мы с Ильи аркан не сняли? Подошел бы он?
– Что ж не подойти? Ведьма бы откат получила, которая аркан накидывала, но и то не сильный. По ней бы разрыв стегнул, может, проболела б она какое-то время – и только.
– Понятно.
– А когда понятно вам, давайте думать. Чтобы и похитили меня, и вы меня нашли потом, – рубанул воздух рукой Илья. – Я не заяц, под кустом прятаться, я жить спокойно хочу, чтобы эта нечисть ни на меня, ни на родных моих руку не поднимала.
– Давайте думать. – И Агафья была согласна, и Добряна головой кивала.
Мужчины ведь…
Судьба такая у мужчин – рисковать, любимых грудью своей закрывать, врага воевать.
И у женщин судьба – ждать их из боя, любить да молиться. А когда получится – еще и помогать, чем могут, и лечить…
А могли три волхвы не так уж и мало. И ждали ведьм весьма неприятные сюрпризы. А кое-что и заранее надо было сделать, о чем и сказала Устинья:
– Илюша, надобно нам еще остальную семью из города отослать!
– Почему, Устенька?
– А когда б не о тебе они подумали, об отце да матери? А ведь они и правда тебя беззащитнее?
Агафья Пантелеевна, которая при беседе присутствовала, внука за ухо дернула крепко:
– Ты, малоумок, головой думать начинай! Не только о себе, но и о всей семье, ты это должен предложить был, не Устя!
Опомнился Илья, головой потряс:
– Бабушка, прости, и правда, дурак я. А только в такое поверить… это ж произнести страшно, не то что сделать! И не верится даже.
– И сделают, Илюша, и нас не спросят. Потому и хочу услать я родных подалее… Кажется мне, что счет на дни пошел, скоро стрела в полет сорвется. Не будет у них времени батюшку с матушкой из поместья везти, а Машенька нам вообще не родня, и Аксинья про то знает.
– Думаешь, рассказала она?
– Уверена. Царица Любава… она умеет из тебя так все вытянуть, сам не заметишь, а расскажешь!
– Поговорю я с родными, Устя. Только вот что им сказать? Так-то не послушает меня батюшка…
– А ты не с отцом-матушкой, с женой поговори, Илюша. Ее упроси сказать, что плохо ей на Ладоге, душно, тяжко. И то, печи тут топят, чад, гарь стоят, снег поутру весь черный, поди, белого и не увидишь-то. А как таять начнет, тут и вовсе тяжко будет, нужники-то вонять будут, их чистить зачнут… Пусть попросится уехать в деревню, там и срок доходит.
– А случись что?
– Смотрела я на нее, не случится ничего. И повитуха там есть, что первый раз у нее роды принимала, я расспрашивала, и крепкая у тебя Маша. Уж почти восстановилась она.
Илья только вздохнул, а что делать-то было?
– Хорошо, поговорю я с Машей. Только боюсь, что плакать она будет, возражать…
– Скажи ей, что от этого жизни ваши зависят. Она – твое слабое место, ежели ей или Вареньке угрожать будут, ты разум потеряешь, сделаешь, что враги захотят. Тогда всем плохо будет.
– А ежели тебя похитят, бабушка? – не удержался Илья от иголки острой, да и кто б тут язык прикусить смог? – Ты ж не уедешь?
– Ох, внучек, в том-то и беда, что не решатся они меня похитить. А жаль, сколько б проблем разом решилось.
Но, глядя на сухонькую старушку, поверить в это было сложно.
* * *– Устёна, мощи привезли.
Устя на мужа посмотрела, кивнула:
– Смотреть пойдем, Боренька?
– Пойдем, радость моя, и Макарию приятно будет, и мне посмотреть интересно, Истерман много уж серебра потратил, там, кстати, и книги есть. Тебе они обязательно интересны будут.
– Будут, Боренька. Я ведь и перевод могу сделать, мы же учить людей на росском будем, чего нам их латынь и франконский? Нам надо, чтобы понятно было.
– И то верно, есть у нас толмачи, но и твоя помощь лишней не будет.
– Я переводить могу с листа, а дьячка выделишь – запишет, потом начисто перебелим, проверим, и можно печатать будет.
– Обязательно так и сделаем. Идем, Устёна?
Разговор этот не просто так шел, Устя как раз венец перед зеркалом поправила, ленту в косе перевязала, сарафан одернула, летник шелковый – не привыкла она к нарядам роскошным.
– Идем, Боренька. Куда мощи принесут?
– В палату Сердоликовую.
* * *Ежели б не палата, Устя бы, может, сразу и не почуяла неладное.
Но даже сейчас она туда с неохотой заглядывала, вспомнить страшно и жутко было, как в той, черной жизни кровь по пальцам ее стекала, как любимый человек на руках ее уходил…
Нет, не хотелось ей туда идти, а надобно. Как на грех, палата была одной из самых больших да удобно расположенных, часто ею государи пользовались, оттого и на отделку потратились. Бешеные деньги сердолик стоил, пока нашли, да довезли, да выложили все алым камнем…
Устя себе твердо положила: покамест Любава во дворце, Пронские здесь, Федор по коридорам ходит, волком смотрит – она от мужа никуда. На два шага – и обратно.
Пусть ругается, возмущается, пусть что хочет подумает, второй раз она его потерять не может! Самой легче с колокольни головой вниз!
С таким настроением Устя и в палату вошла.
А там ковчежец с мощами уж принесли, Макарий распоряжается, довольный…
– Государь, дозволишь открыть?
А у Устиньи голова кругом идет, и мутит ее, и плохо ей…
– Да, дозволяю.
И – ровно клинком в сердце.
Огонь полыхнул, тот самый, черный, страшный, полоснул, и Устя вдруг поняла отчетливо – нельзя!
Нельзя открывать!
А остановить как?! Когда слуги уж отошли на расстояние почтительное, и стража стоит, и Макарий руку тянет…
– Боря… помоги!
На глазах у всех присутствующих царица оседать начала, и лицо у нее белое, ровно бумага, не сыграешь такое.
А Устя и не играла, перепугалась она до потери разума, за мужа перепугалась… Макарий невольно от мощей отвлекся, тоже к царице кинулся:
– Государыня!
Борис жену на руки подхватил, Устинья в рукав Макария вцепилась, глаза отчаянные:
– Владыка, умоляю!
Шепот такой получился, что обоих мужчин пробрало.
– Владыка… не трогайте… я объясню вам все… людей уберите!
Как тут отказать было?
– Вышли все вон! Государыне от толпы да духоты дурно стало! – Распоряжаться Макарий умел. Так гаркнул, что всех из палаты вымело, ровно метлой. Правда, шепот прошел: «Не иначе, непраздна?» – но Устинья о том и не думала покамест. Ей важнее было, чтобы никто ковчег не открывал.
А Макарий на другое смотрел.
Не на ковчег, а на отчаянную зелень глаз царицы. В сером мареве словно хоровод из зеленых листьев кружился, вспыхивали искры, гасли, и было это красиво и страшно.
Ой, не просто так она… ведьма?
Но на крест святой Устинья и внимания не обратила, на дверь смотрела куда как внимательнее. Наконец, закрылись створки, Устинья себе расслабиться позволила.
– Боря, прости, напугалась я.
– Чего ты испугалась, сердце мое?
Не слыхивал ранее Макарий, чтобы государь говорил так с кем-то. Мягко, рассудительно, ласково… С Мариной не то было, нежности меж ними не сложилось, страсть только плотская, а с первой женой сам Борис еще не тем был. Не повзрослел, не успел тогда… а вот сейчас…
Как ему сказать, ежели и правда государыня – ведьма? Сердце ему разбить? За что караешь, Господи?!
Но царица Макарию и слова сказать не дала:
– Прости, владыка, а только плохо все очень. Не знаю, какую опасность мощи эти несут, но черным от ковчежца веет. Таким черным, что… смерть там. И я это чую.
– А я другое думаю, государыня. Ведаешь ли ты, что у тебя с глазами? И откуда у тебя чутье такое появилось?
Ой и неприятным был голос у Макария. Но Устинья и не подумала глаза отводить. Вместо этого подняла она руку, коснулась креста, который висел на груди Макария, и четким голосом произнесла:
– Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым…[8]
Молитва лилась уверенно и спокойно, и Макарий выдохнул. Не бывает так, чтобы ведьма молилась. И в церкви плохо им, и причастие они принять не могут, а государыня два дня назад в храме была, и все в порядке… А что тогда?
– Государыня?
– Не ведьма я, владыка, когда ты этого боишься. Да только в глазах твоих не лучше ведьм я, получилось так, что среди очень дальних предков моих волхвы были. Давно, может, еще когда государь Сокол по земле ходил, а может, и того далее, кто-то из волхвов старых с прапрабабкой моей сошелся. Уж и кости их истлели, а наследство осталось. Не ведьма я, не волхва… потомок просто.














