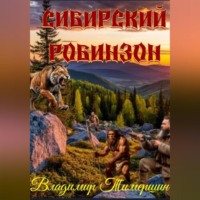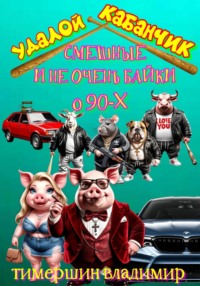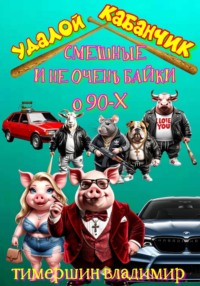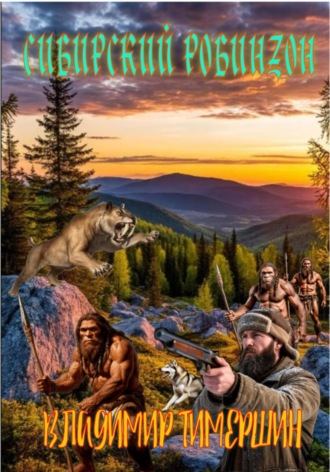
Полная версия
Сибирский Робинзон

Владимир Тимершин
Сибирский Робинзон
Вместо предисловия
Дорогие друзья!
Случалось ли вам в жизни заниматься тем, к чему совершенно не лежит душа?
Если нет, то вы счастливый человек!
Большинство же из нас, понимая, что нелюбимая работа позволяет держаться на плаву, изо дня в день плетётся на ненавистную барщину.
Но иногда случается так, что приходится выполнять работу, за которую вам не заплатят ни копейки. Основой мотивации такого бесплатного труда становится ваша совесть.
Понимание того, что именно вы способны справиться с важной задачей и, несмотря на недостаток опыта, успешно завершить начатое, заставляет браться за совершенно новое дело.
Вот и мне пришлось ступить на эту стезю и заняться тем, к чему я наименее предрасположен, – литературным трудом. Невзирая на своё косноязычие, посредственное владение русским языком и полное отсутствие навыка излагать мысли на бумаге, мне всё-таки пришлось отложить ружьё, взять в заскорузлые пальцы перо и, обмакнув его в чернильницу воспоминаний, описать события, невольным свидетелем которых я стал.
Конечно, память – не женщина, но и она порой изменяет мужчине! Вот почему, вернувшись после всех немыслимых передряг домой, я тотчас же прикупил дюжину общих тетрадей и – вопреки врождённому скудословию – почерком студента, пишущего шпаргалки, принялся скрупулёзно описывать произошедшие со мной неолитические оказии.
Право же, жизнь порой подбрасывает такие происшествия, в реальность которых – если бы они произошли не с вами, а с кем-то другим, – трудно поверить. Выслушав очевидца, вы, скорее всего, вежливо промолчите и подумаете про себя: «Вроде бы не барон Мюнхгаузен, не писатель-фантаст, а надо же, как вдохновенно врёт! Даже придраться не к чему! М-да! Рассказчик весьма интересен и вполне заслужил койко-место в палате № 6».
До тех пор, пока я сам не столкнулся в своей новой реальности с пещерным медведем и чудом спасся, болтовню таких «экспертов» воспринимал как первоапрельскую шутку. Наверняка эти проходимцы сами бы не поверили моей первобытной саге.
Позднее мне попалась на глаза книга гениального физика-теоретика Стивена Хокинга «Краткая история времени». Автор, используя яркие образы и сравнения, сумел доходчиво объяснить происхождение Вселенной. Я без всякой доли скептицизма в один присест проглотил мировой бестселлер и, как миллионы других читателей, ничего не понял. Однако же, в отличие от большинства учёных, следовавших от теории к практике, я отталкивался от обратного и уловил суть идей гения: возможность линейного разрыва времени как формы существования материи. Значит, мой незапланированный круиз в каменный век с точки зрения теоретической физики вполне объясним.
Воодушевлённый содержанием книги, решил немедля сесть за написание кандидатской диссертации и ознакомить мировое научное сообщество с уникальными итогами моей спонтанной экспедиции в прошлое.
Впрочем, поразмыслив и посоветовавшись с женой, не сомневавшейся в подлинности событий, был вынужден отказаться от столь заманчивой затеи.
Во-первых, при написании научного труда требуется делать ссылки на первоисточники. А как я могу выполнить это условие, если единственным свидетелем событий, наряду со мной, была охотничья лайка Мотька? А она, как известно, тварь бессловесная и русскому языку не обучена.
Во-вторых, для обоснования актуальности научной темы я должен изучить труды учёных, посвящённые экспедиции в поздний неолит. В мире таких трудов нет, поскольку я – единственный человек на планете, который не только побывал в доисторическом прошлом, но и сумел оттуда выбраться.
Хотел было, на крайний случай, опубликовать статью в авторитетном английском журнале «Nature», но по политическим мотивам передавать в руки англосаксов ценнейший научный материал поостерёгся.
Я не сомневаюсь: пройдёт время, и учёные физики-теоретики, используя всю мощь будущих квантовых компьютеров, докажут научную достоверность моего прорыва во времени.
Вот тогда-то двенадцать общих, исписанных от корки до корки тетрадей, станут бесценным достоянием человечества! Даже боюсь представить, сколько можно будет написать кандидатских и докторских диссертаций на основе моих достоверных записей, сколько казавшихся несокруши-мыми научных гипотез обратятся в прах… По-видимому, появятся целые институты, научные школы, изучающие моё наследие! Логично будет предположить, что позднее Академия наук учредит ежегодную палеонтологическую премию имени Закиевича.
А пока этого не случилось, предлагаю ознакомиться с моей художественно-публицистической версией доисторического бытописания.
Хочу выразить отдельную благодарность школьному преподавателю русского языка и литературы Александре Ивановне за бескорыстную помощь в литературной обработке тетрадных записей и подготовке текста к публикации.
Глава 1. Драма на снежном саване
Зимой вся таёжная живность жмётся к реке. Глубокий снежный покров вынуждает травоядных добывать пищу вблизи реки. Благо вдоль берега растут заросли ивняка, молодые осинки, пихтач, кора и хвоя которых позволяет животным дотянуть до первой весенней травки. К тому же травоядные постоянно ощущают нехватку соли в организме, поэтому даже зимой не глотают пресный снег, а стараются утолять жажду насыщенной солями и минералами речной водой.
Вслед за травоядными к речному руслу тянутся и плотоядные: росомаха, рысь, волки и другие более мелкие хищники. Надеясь найти по берегам реки вмёрзшие в снег туши погибших животных, сюда же спешит проснувшийся раньше времени от спячки медведь.
Соболь – основной объект промысла – тоже мигрирует вдоль берега рек. Поэтому путики – обустроенные промысловиком тропы с расставленными капканами и ловушками-давилками (кулёмками) – также прокладывают ближе к реке. Естественно, что и охотники стараются зимовье ставить ближе к воде. Но, памятуя об обжигающих зимних ветрах, гуляющих, словно по проспекту, между берегов, и весенних паводках, место выбирают всё же в некотором отдалении от русла реки.
Здесь чуток теплее, да и лихие туристы, идущие сплавом вниз по течению, не смогут заметить избушку, затерявшуюся в таёжных дебрях.
Ребята они, как правило, хорошие, но иногда встречаются и пакостливые людишки. Иной раз от этих горе-туристов урона больше, чем от медведя-шатуна.
В глухой тайге дорог нет, и единственный способ забросить груз, столь необходимый для промысловой охоты, – только по большой воде осенью или по снежному насту ранней весной.
В конце сентября, когда зарядят затяжные дожди, вода в обмелевших реках поднимается настолько, что позволяет на больших лодках забрасывать в один присест в базовую и проходные избы всё самое необходимое.
У меня, как и у моих товарищей по ремеслу, стояли несколько проходных и одна базовая изба, которая по размерам была наполовину больше остальных. Здесь, кроме сараюшки для снегохода, навеса для утвари и лабаза для продуктов, имелась и небольшая банька.
По мере возможности я старался каждую субботу принимать в ней банные процедуры. Известное дело: нам, сибирякам, без бани никуда. Конечно, хлопотное дело в разгар зимы хорошенько прогреть промёрзшую насквозь сараюшку, воды с ручья натаскать, но оно того стоит, ведь с помощью ядрёного пара да берёзового веничка можно не только хворь из организма выгнать, но и душевное спокойствие приобрести. Эх! Бывало, плеснёшь на камни водицу да начнёшь веником тело охаживать, а потом в снег завалишься!!!
Ощущения!.. Словами не передать. А после бани не грех и самую малость на грудь принять.
Булькнешь на дно гранёного стакана водочки, осенишь её крестным знамением, чтобы вышел нечистый дух, а остался чистый спирт, да и одним глотком проглотишь. Закусишь хрустящими груздочками, умнёшь миску домашних пельменей, а уж потом таёжного чая с баданом, малиной да листом смо-родины напьёшься. Кое-как доберёшься до постели, а утром чувствуешь себя, как будто заново на свет народился.
Все мои проходные избушки и базовое зимовье стояли километрах в пятнадцати – двадцати друг от друга. Сезон добычи пушнины заканчивался, и соболь становился невыходным, то есть начинал линять. Я, как у нас говорят охотники, пошёл на последний круг, а это означало, что мне надо было объехать на «Буране», а кое-где проскочить на лыжах весь охотничий участок, снять с насторожки капканы, кулёмки и собрать попавших в них зверьков.
Повседневная непростая работа по закрытию сезона подходила к концу. Впереди меня ждали сотни километров снежной дороги, несколько ночёвок в тесных проходных избах и, наконец, долгожданная дорога домой.
Езда на «Буране» по моим обширным охотничьим угодьям, равным по площади территории Москвы, осложнялась горным рельефом. Зазевавшись, можно было запросто наскочить на камень, предательски спрятавшийся под снежным покрывалом, поэтому я старался по возможности добираться до проходных избушек по руслу реки.
Езда по ледяной глади, припорошенной снегом, занятие довольно рискованное, но менее изматывающее, нежели по сугробам таёжных дебрей. Постоянно встречающиеся наледи, полыньи, тонкий лёд, подмываемый снизу бурным потоком, могут в любой момент сыграть злую шутку, и «Буран» вместе с седоком уйдёт под лёд. Вроде бы ничего страшного – глубина-то небольшая, но оказаться по пояс в ледяной воде – процедура малоприятная. А как одному вытаскивать из полыньи снегоход, а потом ещё в мороз запускать двигатель?
Поэтому уже в марте ехать по льду приходилось с большой опаской. Ошибаться было нельзя. Частенько спешивался со своего стального коня, топором проверял крепость ледяного панциря или возможность объезда очередной полыньи. Часто приходилось забирать в тайгу и объезжать наледи берегом. Такая изнурительная езда выматывала.
Но зато, когда едешь по хорошему участку, на снежном покрывале можно прочесть книгу о скрытой жизни таёжных обитателей.
Вот выдра, судя по следам и несъеденной рыбьей голове, вмёрзшей в лёд, поймала увесистого тайменя. Здесь бобры поочерёдно с зайцами питались сочными ветками осины. А вот и следы сохатого. Видимо, ранним утром зверь объедал веточки ивы, а затем лакомился хвоей молодых пихт. Через пару километров к следам лося добавились волчьи. Серые разбойники почуяли добычу и взяли след. Судя по величине отпечатков на снегу, трое из них были матёрые волчищи, остальные – переярки.
Увеличивающееся расстояние между следами свидетельствовало о том, что стая резко перешла от неспешной рыси к быстрому галопу. Если бы так называемые «санитары леса» набрели на парнокопытного в тайге, то они бы на раз-два расправились с беспомощным в глубоком снегу зверем. Здесь же, на речном ледовом панцире, им придётся приложить немало усилий для того, чтобы взять сохатого.
Ещё через километров пять на окровавленном снегу показались останки почти съеденного животного, от которых, испугавшись громкого тарахтенья снегохода, метнулась тень. Это в сторону тайги, держа в пасти кусок голени и неуклюже косолапя, убегала росомаха.
Следы на снегу лучше всякой книги рассказали о том, что произошло. Судя по отпечаткам лап на белом покрывале, всё случилось сегодня утром. Волки гнали лося по льду, припорошённому снегом. От движения по скользкой поверхности сохатый устал и, выбившись из сил, остановился и принял неравный бой. Стае сходу не удалось завалить таёжного гиганта. Началась долгая осада. Об этом свидетельствовали примятый окровавленный снег и разбросанные куски шерсти. Тайах (лось по-якутски), видимо, сбросил вцепившегося в загривок волка и смог из последних сил пробежать ещё метров двести. Затем серая шайка набросилась на него, и всё было кончено… Добыча дорого обошлась стае, и у одного из матёрых волков, судя по следу, идущему от туши лося, была перебита правая задняя лапа. С таким увечьем серый разбойник в зимней тайге не жилец. И в конце концов свои же собратья слопают бедолагу. Не пропадать же добру!
К моему удивлению, кроме следов волков и сбежавшей в лес росомахи, я обнаружил отпечатки огромных медвежьих лап.
Сердце ёкнуло. Стало по-настоящему жутковато. Что-то слишком рано проснулся хозяин тайги. Видно, запасов жира не хватило до весеннего пробуждения. А может быть, кто-то потревожил.
Судя по всему, медведь отогнал нажравшихся от пуза серых разбойников и знатно отобедал. А уже после того, как медведь наполнил свою бездонную голодную утробу, к пиршеству присоединилась росомаха. Без малого полтонны лосятины хватило на всех и ещё осталось мелким пернатым воришкам, охочим до чужого добра: сойкам, сорокам, воронам.
Слава богу, шатун насытился и навряд ли в обозримом будущем будет рассматривать человека как объекта охоты, но надо быть настороже. Скорее всего, медведь да и волчья семейка не уйдут далеко от остатков туши.
Следы хищников вели на противоположный правый берег реки, и это меня несколько успокоило, ведь моя избушка находилась на левом.
Волков опасаться не стоит. За тысячелетия у них на генетическом уровне выработался страх перед человеком, и нападают на людей они только на страницах книг незадачливых писателей или на экране в кадрах очередного голливудского блокбастера. Прожив многие годы рядом с этим на редкость умным хищником, я не помню ни одного случая нападения на человека. Да, с помощью волчицы стая выманивает охочих до сучек глупых деревенских псов в лес, и там горе-любовников мгновенно раздирают в клочья. Давят домашний скот, особенно на вольных выпасах, но людей никогда не трогают, считая их сильнее себя. А вот с шатуном, даже набившим свою утробу мясом, надо быть настороже. Не залёгший в зимнюю спячку зверь – реальная угроза даже для опытного зверобоя. Как-то раз на охотничьих посиделках якут, бывалый промысловик, добывший нескольких медведей и не один десяток матёрых волков, рассказал, как к нему в зимнюю стужу пожаловал огромный шатун, потерявший от голода страх перед человеком. Он проломил окно зимовья, просунул в него лапу и пытался поддеть ею зажавшегося в угол охотника. Якут выстрелил в упор, но ещё полчаса не мог заставить себя выйти во двор, чтобы окончательно убедиться в смерти зверя. За полчаса сорокаградусный сибирский мороз выстудил избу.
Хорошо, что у охотника была смена тёплых кальсон. Те, что были на нём, он замочил.
Памятуя об этом, на всякий случай перезарядил ружьё картечью. Бережёного бог бережёт!
Почти добрался до своей предпоследней избушки, которая находилась в метрах ста от реки, как раз напротив того места, где случилась трагедия. Сначала без саней-волокуш налегке «Бураном» проторил по снежной целине дорожку до избы, а затем туда же подтащил сани с тяжёлой поклажей.
Сердце ёкнуло! Снег вокруг избы был истоптан медвежьими следами и изгажен испражнениями животного. Дверь в избу висела на одной петле. Вокруг дома была раскидана моя нехитрая утварь, а ватный матрас разорван в клочья.
У меня засосало под ложечкой. Неужели медведь в гости приходил? Самое худшее подтвердилось. В избе побывал медведь-шатун. Обезумевший от голода, в поисках съестного он всё перевернул вверх дном. В звериной ярости сдвинув с места буржуйку, медведь даже помял её. Вся провизия, кроме приправ и соли, у меня хранилась в лабазе, крошечной избушке на столбе, обитом жестяным листом, её косолапый пытался взять штурмом, но у него ничего не получилось! Свидетельством тому были следы когтей на листе железа.
По отпечаткам лап на снегу я безошибочно определил, что зверь, отнявший у волков добычу и разграбивший зимовье, один и тот же. Отлегло от сердца! Скорее всего, косолапый вначале побывал у меня в гостях, а уж затем наткнулся на волков, пожирающих добычу. В любом случае, наевшись до отвала лосятины, хозяин тайги где-то схоронился и второй раз на штурм зимовья вряд ли пойдёт.
Из-за высоченных сугробов не заметил ещё одну напасть. Огромная пихта то ли от ветра, то ли от старости свалилась прямо на крышу избы, повредив дымоход и часть кровли. Осенью, понадеявшись на русское «авось», поленился и не стал валить изрядно подточенное жуками-дровосеками дерево, поэтому вместо отдыха и горячего чая мне предстояло исправлять собственную ошибку.
Смеркалось. Надо было поторапливаться. Кто его знает, что у бурого бродяги на уме? Уж лучше встретить его внутри избы, чем у таёжного костра.
Не знаю, сколько времени я провозился. Сбросил с крыши распиленный бензопилой на несколько брёвен ствол, поправил дымоход, заново навесил дверь, сходил к ручью за водой и, наконец, навёл порядок внутри.
Почти в полночь при лунном свете, продрогший до костей, со скрюченными от мороза пальцами, я кое-как растопил печь, достал из лабаза килограммов на пять тайменя, добытого поздней осенью, булку белого замороженного хлеба и приступил к приготовлению ужина. Порубил рыбину на куски, голову и потроха отдал собаке, а остальное сложил в помятый мишкой котелок, посолил, бросил собранный на полу лавровый лист, головку лука и поставил варить.
Наевшись до отвала и напившись горячего чая подумал: «Как же приятно, чёрт возьми, насквозь промёрзшим, уставшим посидеть возле буржуйки с кружкой горячего чая и оценить неказистый уют таёжной избушки!»
Несмотря на усталость, сон у меня был тревожным. Непонятно, спал или не спал. Подсознание, как у спящего трусишки-зайца, всё время было начеку.
Худа без добра не бывает, и плохой сон помог мне на протяжении ночи поддерживать огонь в буржуйке, стены избы прогрелись настолько, что кое-где от жары брёвна заплакали янтарной смолой. Я же в одном исподнем наслаждался уютом таёжной хижины.
Перед рассветом, будто в бездонную пропасть, провалился в глубокий сон и за пару утренних часов прекрасно выспался. Это было весьма кстати – ведь день-то обещал быть трудным.
Глава 2. Врата времени
Солнечный зайчик, пробравшись сквозь заиндевелое окно, пощекотал в носу – заставил чихнуть и открыть глаза. Накинув наспех суконку, я выскочил на улицу и, сделав своё дело, краем глаза глянул на термометр. Ничего себе! К утру воздух выморозило до минус тридцати пяти. Вот вам и первый месяц весны!
Впрочем, удивляться нечему: в марте у нас всегда так – днём весенняя капель, а ночью такой мороз завернёт, что у избушки, будто в январе, стены трещать начинают. Кажется, будто старуха-зима не хочет пускать в свои владения юную соперницу в солнечных веснушках.
С удовольствием позавтракал остатками вчерашнего ужина. За ночь куски жирного тайменя превратились в заливное и стали ещё вкуснее. С этим согласилась получившая с «барского стола» изрядную порцию рыбы четвероногая напарница – лайка по кличке Мотька.
Промёрзший до последней гайки снегоход долго не хотел запускаться. Отогретый паяльной лампой двигатель зачихал и, выпуская клубы сизого едкого дыма, истошно жалуясь на судьбу, затарахтел. Вот теперь порядок – можно двигаться дальше.
Поутру на волчьих тропах, ведущих к остаткам сохатого, установил пару тщательно замаскированных капканов и несколько стальных петель. Стая обязательно вернётся, и тогда, если повезёт, хотя бы один волк да угодит в ловушку. В этом случае, кроме денег, вырученных за шкуру, ещё и премия от районной власти полагается. Что ж, через пару недель вертаться буду – там и посмотрю, каким местом мне удача повернулась.
Конечно, по-хорошему, надо бы пойти по следу покалеченного разбойника и добить зверя, однако даже на трёх лапах он ускачет так далеко, что на погоню придётся потратить уйму времени. Впрочем, волк-инвалид всё равно не жилец и вреда зверью таёжному не принесёт.
Я и мои собратья по ремеслу специально волка не бьём – уж больно хлопотное и материально затратное это занятие. Хищник – на редкость умное, осторожное, хоронящееся от человека с ружьём животное, и даже если охотнику всё-таки удастся перехитрить серого, то доход от продажи шкуры и премия администрации едва ли покроют все затраты, связанные с охотой.
Нередко случается так, что попавший в капкан волк сам себе отгрызает лапу и уходит, а чаще всего члены стаи съедают несчастного. В таком случае охотнику-волчатнику, потратившему немало времени и уйму дорогого бензина, поселковым чиновникам и предъявить нечего.
В нашей черновой тайге с её труднопроходимым буреломом волка почти нет, поскольку основным объектом его охоты является северный олень, кочующий по редколесной притундровой тайге, где легче из-под снега копытить ягель.
Там, в северных улусах, волки для оленвеодов настоящее бедствие. Ущерб охотничьих и фермерских хозяйств от бесчинств серых разбойников исчисляется миллионами рублей. Но чем измерить горе пастухов-оленеводов, лишившихся из-за кровожадных бандитов средств к существованию?
Это только в школьных учебниках зоологии волк – благородный санитар леса, который, охотясь исключительно на ослабленных и больных животных, спасает поголовье от эпидемий.
В жизни всё иначе. Весной, начиная с апреля, у важенок начинается отёл, и значительная часть новорождённых телят попадает прямо в желудок хищника. Объявившаяся поблизости волчья стая не успокоится, пока не растерзает последнего оленёнка.
Зачастую обнаглевшие хищники, пользуясь беззащитностью домашнего скота, режут пасущихся на вольном выгуле коров, овец, лошадей. Тут уж не до сантиментов, и вопрос ставится ребром: кто кого!
Поставив ловушки, я вернулся в избу, выпил на дорожку чаю вприкуску с краюхой хлеба, шматком сала и луком, подцепил к снегоходу доверху набитые поклажей сани и тронулся в путь.
Какая же нужда сподобила меня уже в конце промыслового сезона забрасывать на крайнюю проходную избу столь необходимые для таежного быта припасы – соль, сахар, крупу, рыбачьи снасти, посуду, инструмент, кое-какой строительный материал, общем, всё то, без чего таёжнику никак не обойтись?
Всё просто: за последние годы цены на пушнину – за исключением соболя – упали, и хотя сейчас за него платят больше, всю выгоду от повышения цены съела инфляция. Вырученных за шкурки средств едва хватает, чтобы свести концы с концами. Вот почему на семейном совете решили для дополнительного приработка заняться набирающим силу экотуризмом.
Последняя проходная изба с живописными горными пейзажами, полным отсутствием назойливого гнуса и знатной рыбалкой как нельзя кстати подходила для будущей задумки.
В сентябре из-за мелководья, вызванного необычайно засушливой осенью, весь груз по воде забросить не удалось. Поэтому для обустройства будущей туристической базы почти полтонны груза пришлось везти по весеннему насту на санях-волокушах.
В конце мая, сразу же после последнего школьного звонка, я вознамерился вместе с сыновьями добраться на лошадях до крайнего зимовья и приступить к обустройству турбазы. Требовалось положить в бане пол, соорудить лабаз для продуктов и навес для кухни, расчистить место под будущие палатки и переделать ещё массу мелких, но столь необходимых для проживания туристов дел.
Рассчитывали потратить первую заработанную копейку на то, чтобы к следующему сезону срубить из пихтача пару гостевых избушек. Пусть народ, уставший от благ цивилизации, вдыхает аромат пахнущих смолой стен, отдыхает душой и телом, набирается сил перед возвращением в городские ка-менные человейники.
Итак, попутно проверяя путики, я двинулся в последний переход до будущей «турбазы» – последнего на участке приюта зверолова. Выхода пушнины почти не было. Раньше меня капканы и кулёмки «проверила» росомаха и растерзала попавших в них зверьков. Похоже, это тот самый зверь, который крутился у останков лося.
Беда, если росомаха объявится на охотничьем участке. На редкость умный и пакостливый зверь будет ходить след в след за охотником, сдёргивать приваду с капканов, а когда он покинет зимовье, заберётся внутрь и устроит погром. Из-за свирепого нрава этого зверька размером со среднюю собаку остерегаются не только волки, но и сам хозяин тайги – медведь. Настроение испорчено. Надежда на хороший доход, а значит, и на покупку нового «Бурана», рухнула.
Ближе к полудню задул юго-западный ветер. Потеплело. Небо заволокло свинцовыми тучами, пошёл снег, быстро превратившийся в буран.
Пурга в тайге не страшна – это вам не чистое поле, и деревья не дают ветру набрать силу. Однако спросите любого таёжника, что для него лучше: мороз под сорок или снежный буран? Не задумываясь, ответит: мороз. В стужу можно заниматься промыслом, а в метель – нет. Опять же порой на ловушки столько снега навалит, что они под его тяжестью самопроизвольно срабатывают. Приходится на «Буране», а где уж не пробиться – на лыжах открывать путики, вызволять из-под снега капканы, кулёмки и вновь их настораживать. Поверьте, торить на «Буране» по только что намётанным сугробам путь – занятие неблагодарное и весьма потозатратное.