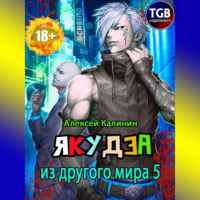Полная версия
Я уничтожил Америку 1
Я усмехнулся:
– Я знаю, что закусывать лучше жирным. Что рюмка водки срабатывается организмом за час, как бокал вина или пива. Что лучше двигаться, больше пить воды и не мешать напитки. И главное – не понижать градус.
Профессор вдруг рассмеялся, его смех напоминал скрип старого кресла:
– Браво! Вижу, вы действительно умеете приспосабливаться.
Он вдруг стал серьёзен:
– Алкоголь в том мире – это и меч, и щит, и петля на шее. Вы должны научиться обращаться с ним, как фехтовальщик с рапирой – изящно, расчётливо, всегда контролируя ситуацию. Потому что одно неверное движение… – профессор сделал паузу, – и вы уже не пьёте, а рассказываете всем напропалую, что будет в будущем.
– А что до генсеков? Как с ними в баньке не бухнуть? – подмигнул я.
– С ними самое опасное. Если доберётесь до верхушки власти, то нужно крепко-накрепко держать в уме, что сейчас вы находитесь рядом с тиграми, которые прогрызли себе путь наверх. Люди шли по головам и за свой путь успели насмотреться такого, что волосы порой встают дыбом. Тот же Хрущёв, как вы помните, был одним из партийных руководителей, кто присылал расстрельные списки. А потом принёс «Секретный доклад». Зачем вообще это было нужно Хрущёву? Он бы вполне мог без громких обличений начать без лишнего шума пересматривать дела репрессированных. Но нет. Невозможно постоянно говорить, что чего-то нет, когда это есть. И он очень сильно боялся, что появится кто-то другой, кто объявит об этом. А тогда Хрущёв сам окажется не в числе разоблачителей, а среди пособников Сталина, участвовавших в репрессиях. Он просто хотел опередить всех, потому что любой из Политбюро мог сказать: «Никита Сергеевич, а ты сам-то чем занимался? Кто подписывал расстрельные списки? А кто предложил устраивать публичные казни на Красной площади?» Ему сам Сталин на списках репрессированных, которые Хрущёв отсылал наверх, ставил резолюцию: «Уймись, дурак!». Это был настоящий бег наперегонки – кто быстрее объявит «страшную правду».
– Суровое было тогда время. Но меня-то отправляют в более поздний отрезок.
– Да, но надо учесть, что ваш отрезок времени ненамного отстоит от только что озвученного мной. И те же акулы продолжили плавать в очень мутной политической воде.
– Понимаете, любезный, – профессор задумчиво покрутил в пальцах карандаш, будто проверяя его на прочность, – ваша миссия тоньше, чем кажется. Эти партийные работники… За их улыбками скрывалась натура охотников. Банный день? Чистейшая проверка на вшивость. Там не столько пьянство проверяли, сколько умение держать язык за зубами, когда пар да водка расслабляют.
Он вдруг оживился:
– Возьмём Леонида Ильича. Обожал он компанию весёлых, но… – профессор щёлкнул пальцами, – переступи невидимую черту, и всё. Был у нас один номенклатурщик, на банкете разошёлся – рассказал похабный анекдотец про политбюро. Вечером был душой компании, утром стал пенсионером союзного значения.
Я свистнул:
– То есть каждая шутка как ходьба по минному полю?
– Точнее не скажешь! – профессор вскочил и начал расхаживать по кабинету. – Представьте себе: парная, все голые, как мать родила, водочка течёт рекой… Казалось бы – полная расслабуха. Ан нет! Именно тут-то и принимались решения, ломавшие судьбы. Недаром умные советчики шептали своим подопечным: «Товарищ, здесь даже стены имеют длинные уши».
– Выходит, банный день – это как допрос с пристрастием, только с веником и закуской?
– Ха! – профессор ехидно ухмыльнулся. – При допросе тебя хотя бы предупреждают, что ты можешь не свидетельствовать против себя. А тут… Пройдёте проверку паром – живите как сыр в масле. Оступитесь – пенсия на двести рублей в месяц с волчьим билетом. И помните, – он вдруг понизил голос до шёпота, – самое опасное не когда вы молчите, а когда вам показалось, что вы среди друзей.
Я посмотрел на него:
– Скажите, профессор, а сами бы вы хотели вернуть Советский Союз?
– Хотел бы я? – грустно усмехнулся он и задумчиво проговорил. – Он вкладывал в наши руки не готовые истины, а огранённые как алмаз вопросы, заставляя пальцы обжигаться о грани сомнений. Мы росли, как молодой лес после пожара – упрямо, криво, но неизбежно вытягиваясь к свету сквозь пелену собственного неведения. Годы текли, как речная вода, унося с собой юношеский максимализм. Мы обрастали регалиями, как старые дубы – лишайником, принимая позолоту наград за подлинную мудрость. А он молча наблюдал. Смотрел, зная, что настоящее понимание, как весенний лёд, приходит только с первыми оттепелями жизненного опыта. Он был странным садовником нашей судьбы. Посылал нас – эти неокрепшие ростки – то в душные аудитории, где ковался разум, то в жаркие цеха, где закалялась воля. Бросал в студёные воды северных строек и раскалённое пекло космодромов. Как сеятель, не жалеющий зерна, он разбрасывал нас по необъятным просторам, зная, что лишь в бороздах реального дела прорастёт характер. И характер прорастал… Так что да, я хотел бы, чтобы Союз вернулся, и чтобы сделал-таки человека будущего гораздо лучше чем то, что есть сейчас! Сейчас тоже люди замечательные, но… Я уверен, что потребительство и капитализм сломали и извратили многие судьбы. Мы перестали мечтать о звёздах, а начали грезить о каких-то коробочках, которые выходят каждый год новые! И это неправильно…
Не найдя, что ответить, я только поджал губы.
Я должен был заниматься неделю, но после просьбы о получении информации об Америке, обучение растянулось на ещё одну неделю. Сначала не хотели давать этой информации, но после разговора с Владимиром Владимировичем…
Обучение превратилось в настоящий марафон. Казалось, чем больше я узнавал, тем больше понимал, как мало на самом деле знаю. После запроса про Америку ко мне приставили нового инструктора – сухонького старичка с глазами, похожими на два рентгеновских аппарата. Он представился как «товарищ Николай», но я был почти уверен, что это не его настоящее имя.
– Вот вам базовый курс, – сказал он, кладя на стол папку с грифом «Совершенно секретно». – Политика, экономика, культура. Особое внимание – кинематографу и музыке. Вы должны знать «Битлз» лучше, чем свои пять пальцев, и разбираться в «Роллинг Стоунз» лучше, чем в марках советского пива.
Я открыл папку. Внутри лежали вырезки из западных газет, фотографии, даже какие-то рекламные проспекты. Всё это выглядело как артефакты с другой планеты.
– А язык? – спросил я.
– Языком займёмся отдельно.
И занялись. На следующий день меня погрузили в гипноз, и в моей голове зазвучала странная какофония – английские слова, фразы, идиомы. Они врезались в сознание, как иголки в подушку. Просыпаясь, я ловил себя на том, что мысленно строю предложения с «man» и «dude», а во сне мне снились большие города с небоскрёбами и вывесками на чужом языке.
– Какого чёрта?! – выругался я как-то утром, обнаружив, что могу свободно пересказать сюжет «Звёздных войн» на английском.
– Побочный эффект, – равнодушно ответил «товарищ Николай». – Зато теперь вы сможете сойти за американца. Ну, или хотя бы за канадца.
Но самое интересное началось позже. Меня учили не просто языку, а менталитету. Как вести себя в американском супермаркете, как реагировать на рекламу, как смеяться их шуткам. Даже как правильно держать гамбургер, чтобы не выглядеть идиотом.
– Главное – не переигрывать, – предупреждал инструктор. – Если вас спросят, откуда вы, говорите, что из Чикаго. Там акцент нейтральный. И, ради Бога, не пытайтесь копировать негров. Белые американцы так не разговаривают, если только они не хиппи или не наркоманы.
К концу недели я уже мог поддержать разговор о Никсоне, Вудстоке и даже о последних матчах НБА. Но чем больше я узнавал про Америку, тем сильнее понимал, насколько всё это хрупко. Одно неверное слово – и любая случайная встреча в баре могла стать фатальной.
– А что, если меня всё же расколют? – спросил я в последний день.
«Товарищ Николай» ухмыльнулся:
– Тогда надейтесь, что успеете застрелиться раньше, чем вас возьмут живым.
После поднимающего дух обучения, меня завели в отдельную комнату, которая походила скорее на операционную палату. Тело облепили таким количеством датчиков, что кожа почти скрылась под ними.
Семь человек трудились у мониторов, перебрасываясь непонятными мне словами. Я особо не вслушивался. Последним, кого я увидел, был профессор Степанов. Он ввёл мне в руку очередную иглу с длинной капельницей и поправил кислородную маску на лице:
– Я желаю вам удачи и… До встречи в светлом будущем!
Я кивнул, прикрыл глаза и погрузился в тёплую темноту.
Пробуждение было крайне резким и неожиданным…
Глава 4
Чёрт возьми, где же обещанные тоннели со светом в конце? Никаких сияющих врат, ангельских хоров или хотя бы голоса покойной бабушки: «Шуруй, внучок, шуруй быстрее!» Просто щелчок – и я уже здесь, в чужом теле, с пересохшим ртом и запахом горелой изоляции в ноздрях.
Провод, этот гад, ещё дёргался у меня в пальцах, когда я швырнул его прочь. Он злобно зашипел на столе и выплюнул сноп искр. А потолочная лампочка – предательница! – тут же сомкнула своё жёлтое веко, погрузив комнату в полумрак. Видимо, местная электроника держала круговую поруку.
Сердце в груди билось неровно, словно ритм задавал пьяный барабанщик на похоронах дирижёра. Тело было тёплым, но каким-то… ненадёжным. Как подержанный «Запорожец» после десяти лет эксплуатации у таксиста-алкоголика.
И вот сердце начало глохнуть, лишённое подпитки энергии…
Ага, в это время настоящий инженер запаниковал, шокированный произошедшим, и глупо помер. Так что у меня всего-то ничего осталось. Его мозг я занял и теперь… В области сердца очень сильно кольнуло. Так проткнуло, что из глаз посыпались искры ярче тех, которые выдал провод.
Ладно, герой, ты же не для того сюда попал, чтобы сдохнуть в первые пять секунд!
Руки сами потянулись к груди – старый приём из курса гражданской обороны. Если сердце барахлит, значит, надо… глубоко вдохнуть и резко ударить кулаком выше мечевидного отростка. Сам себе… Очень сильно!
Я так и сделал.
Раз!
Два!
Три! Ну же!
Тело вздрогнуло, как заглохший «Москвич» при удачном толкаче, и сердце рвануло вперёд, словно испуганный заяц. В груди заурчало, зашипело, и наконец мотор заработал – сначала с перебоями, потом ровнее.
Попытался сесть, и мир вокруг поплыл, как дешёвая акварель под дождём. Рано ещё садиться! Где-то в углу сознания пролетели обрывки чужих воспоминаний – чертежи, сварка, чей-то голос: «Петька, да ты чего, там же фаза!»
Ну да, Петька – это моё новое имя. Пётр Анатольевич Жигулёв, собственной персоной.
– Ну что, Петька, – пробормотал я, отплёвываясь от вкуса меди на языке, – давай-ка оживлять твою потрёпанную оболочку.
Лёгкие скрипели, как несмазанные мехи гармони. Я судорожно хватал воздух, и каждый вдох обжигал, будто глоток самогона из технического спирта. Но кислород – он и в Африке кислород. Мозг прояснялся, мир вокруг постепенно переставал быть размытой кляксой.
– Дыши, Петька, дыши…
Молодое тело стремилось жить и пятна понемногу отходили с глаз. Вскоре даже получилось присесть, оглядеться.
Я осмотрел себя: рабочий комбинезон с пятнами масла, руки в царапинах и ожогах – типичный портрет советского электрика-самоучки. На запястье – часы «Ракета» с треснутым стеклом. Ого, любимая марка часов Брежнева! Стрелки показывали без десяти девять.
Пальцы нащупали в кармане пачку «Беломора». Папиросы помяты, но курить можно. Зажигалка на месте – старый добрый «Огонёк», холодная, плоская игрушка. На боку схематичные изображения ряда красноармейцев и цифры: 1917 1967.
Ну что же, значит, живём! Как пел Цой: «Если есть в кармане пачка сигарет, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день!»
Где я? Судя по всему, я находился в комнате общежития. Почему общежития? Потому что за дверью раздался недовольный грубый голос соседа:
– Опять Петька чегой-то наху… нахимичил? Третий раз за неделю пробки вышибат! Эй, ты живой там, инженеришка доморощенный?
Буммм!
Судя по звуку, в дверь влепил копытом конь Будённого. Даже кусок бежевой краски слетел мелким листиком с правого угла двери. Михаил Петрович Игонатов был суров и любил иногда позволить себе залить за воротник. В таких случаях его жена Людмила выскакивала из дома, а сын, десятилетний Макарка, прятался в комнате Петра Жигулёва. Это меня так натаскивали в особняке профессора. Всё-таки я должен был знать соседей по коммунальной квартире.
– Живой я! – постарался как можно громче пискнуть в ответ. – Живой!
– Ну, дохимичишься как-нибудь… Дохимичишься… – прогудело за дверью. – Ладно хоть пробок с завода притаранил, а то тащись за ними в такое время!
– Кузьмич, ты ба сунул пару раз энтому козлёнку, а не то телявизер не даёт нурмально посмотреть. А ежели кинескопка сядет? Кто тогда менять будет? Ась? – послышался визгливый старушечий голос соседки, Матроны Никитичны Корносенко, женщины редкой вредности и крайне склочного характера.
Дверь дрогнула под очередным ударом, и я понял – сейчас она не выдержит. Михаил Петрович явно не собирался ждать приглашения.
– Живой, говоришь? – раздался хриплый бас. – А ну-ка открой, Петро, а то я тебе сейчас живости поубавлю!
Я кое-как встал. Пошатнулся. Двинулся к двери, всё ещё чувствуя, как ноги подкашиваются и колени трясёт. В небогатой комнате была одинокая металлическая кровать, шкаф с покосившейся дверцей. Стол с остатками еды и два стула. Обои в углу слегка отклеились. Тюлевые шторы на окнах явно не стирали с момента покупки. В углу стопки сложенных книг. Холостяцкая берлога.
Дёрнул щеколду, потянул скрипучую ручку – и передо мной возникла монументальная фигура соседа. Тапки на босу ногу, семейные трусы и майка с застарелыми пятнами. Михаил Петрович стоял, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь на палубе. Его лицо цвета спелой свеклы излучало то самое «добродушие», которое обычно предшествует кулачным разборкам.
– Ну и рожа у тебя, Жигулёв! – фыркнул он, окидывая меня мутным взглядом. – Давай сюда пробки, а то скоро новости будут показывать.
Из-за его спины высунулась морщинистая физиономия Матроны Никитичны. Такую особу можно часто увидеть на рынке, скандалящую по любому поводу. То ли ей морда окуня не понравилась, то ли рожа продавца… Энерговампир. Главное – поскандалить и с чувством удовлетворения умчаться к себе, праздновать не просто так прожитый день.
– Он же себе, Петрович, все мозги ужо расхлебянил со своими экспериментами! – заверещала она, тыча в меня костлявым пальцем. – В прошлый месяц у меня утюг сжёг, а теперь вот телявизер! Да за такое в колхозе бы тебя…
– Да заткнись ты, старуха! – неожиданно вступился Михаил Петрович. – Мужчины разговаривают!
– Чего «заткнися»? Чего «заткнися»? Ишь, бельмы залил и сразу смелым стал? Я на вас ужо управу найду! Я вас ужо всех к ногтю! – завопила Никитична, благоразумно отскакивая на пару метров.
Михаил Петрович фыркнул, достал из кармана смятую пачку «Казбека»:
– Ладно, электрик-самоубийца, давай по-быстрому. Я тебя придержу, чтобы не навернулся с табуретки.
Матрона Никитична злорадно закивала:
– А я ишо милицию позову! Пущай разберутся, почему у нас весь дом без света из-за этого… этого…
– Гения электротехники? – подсказал я, чувствуя, как потихоньку возвращаюсь в себя.
Мне здесь определённо нравилось. Какой-то душевный приём получился, как будто после долгой отлучки вернулся в родные места.
– Колоборода и бездельника! – поправила старуха.
Михаил Петрович громко рассмеялся и шлёпнул меня лапой по плечу:
– Ну что, Петро, берёшь инструмент и показываешь класс? А то старуха тут реально милицию начнёт кликать…
Я вздохнул и потянулся за пробками на руке Петровича. Первое испытание в новом теле – и такое типично-советское: починить электрику под угрозой физической расправы и в окружении недовольных соседей.
Коридор был типичным для коммунальной квартиры советского толка – длинный, и узкий, освещённый одной-единственной лампочкой под потолком, которая иногда мигала с таким усердием, будто передавала азбукой Морзе: «бе-ги-те-от-сю-да».
Всё ненужное, что было жалко выбросить или «могло ещё пригодиться», выставлялось в коридор. Так что висящие на стенах старые тазы, прислонённые к шкафам лыжи, разбитые деревянные ящики – всё находило последнее пристанище именно здесь. От стены к стене были натянуты верёвки, на которых сушилась одежда и даже нижнее бельё: в коммуналке стесняться было невозможно.
Вдоль коридора тянулись двери – одинаковые, как пайки в столовой, различающиеся только степенью обшарпанности. В крайней комнате жил ещё тихий пенсионер Семён Абрамович Шлейцнер. Сейчас из его комнаты не раздавалось ни звука. Может быть приник волосатым ухом к замочной скважине и старательно впитывает очередной акт коммунальной жизни.
Воздух колыхался густым коктейлем из запахов: дешёвый табак «Казбека», жареная картошка, немного затхлости, пивной аромат, одеколон «Шипр» и едва уловимый аромат надежды на лучшую жизнь.
Встал на шаткий стул. Петрович поддержал, чтобы не грохнулся. Одну керамическую на «фазу» и вторую керамическую на «ноль». Вот и ладушки. Первое испытание на замену прошёл, и лампочка под потолком радостно заморгала. Завела свою «морзянку».
– Ты это… давай, поаккуратнее, – посоветовал на прощание сосед. – Мало ли чего…
Да уж, мало ли чего…
Пока что Михаил Петрович был только навеселе, но чувствовалось, что вскоре заведётся патефон счастливой семейной жизни, пойдут пьяные песни, разборки, а Макарка снова останется спать у меня. Надо на всякий пожарный разложить раскладушку. Пусть пацан спит, мне не жалко.
Когда вернулся в комнату, то сразу открыл окно. В комнату ворвался гомон голосов с улицы, гул редких проезжающих машин, глухие удары по мячу и детский смех. Шорох липовых листьев под напором ветра старался приглушить идущие звуки, но ему это слабо удавалось.
Начало лета, первые дни каникул. Ребятня зашвырнула учебники подальше и теперь отрывалась за все месяцы сидения за партами. Таких разве загонишь домой? Я себя помню – даже попить старался не забегать, чтобы не оставили заниматься какими-нибудь домашними делами. Ведь на улице футбол… на улице друзья… на улице лето и всё радуется жизни.
– Васька-а-а! До-о-омой! – полетел под темнеющим небом страшный для мальчишки крик.
– Колька-а-а! Тоже давай домой! – вот ещё кому-то на голову свалились оковы родительской любви.
– Ну, ма-а-ам, ещё пять минуточек! – в слабой попытке выторговать себе ещё немного свободы прозвенело на улице.
– Домой, я сказала! А не то завтра вообще гулять не пущу! – материнская суровость была непоколебима.
И угроза была действительно реальной. Что может быть хуже для пацана, когда летом запирают в четырёх стенах?
Я невольно улыбнулся. Что-то мягкое и тёплое расширилось в груди. Как будто развернул полузабытый альбом с фотографиями, где я, вихрастый мальчишка, улыбаюсь во все тридцать два зуба, сидя на заборе или с футбольным мячом подмышкой.
Кстати, а как я сейчас выгляжу? Нет, мне показали материалы, фотографии, но одно дело увидеть это на пожелтевшей бумаге, а совершенно другое – полюбоваться собой в полный рост.
Где может быть зеркало? Наверное, там, где чаще всего бреются и умываются? Я выглянул в коридор – никого. Аккуратно прошел до ванной. Моё дефиле осталось незамеченным.
Толкнул дверь ладонью. Она легко распахнулась, показывая небольшую комнату, скорее даже каморку, заставленную предметами быта: тазики, бельевые верёвки, веник и самое главное – покоцанное зеркало с отбитым краешком, висевшее прямо над чугунным умывальником.
Пожелтевшая ванна давно уже требовала законной сдачи на металлолом, но её упорно отказывались сдавать. Использовали её в качестве душа, потому что она была проржавевшей и несимпатичной. В такой не станешь разлёживаться. Похоже, что и здесь работал один из главных принципов коммуналки: всё общественное – ничьё.
Ладно, мне нужно зеркало. За ним я и пришёл сюда.
Подошёл ближе, рассматривая своё отражение внимательно, почти недоверчиво. Лицо выглядело молодо, свежо, кожа гладкая, глаза голубые, соломенного цвета волосы коротко подстрижены и аккуратно уложены набок. Фигура не совсем спортивная, похоже, что инженер не очень увлекается спортом. Ничего, это можно поправить. Но вот лицо, выражение глаз… Глаза смотрели уверенно, спокойно. Где-то в них скрывалась мудрость веков.
Надо будет ещё поработать над выражением глаз. Не может такой взгляд быть у молодого человека.
– Ванну не занимать! Севодня моя очередь мыться! – раздался из-за дверей дребезжащий голос Матроны Никитичны. – Я вона и ведро ужо поставила греться! Так шо вскорости мне ванная понадобится.
– Да-да, я сейчас выйду, – отозвался я. – Вот только прыщ на носу выдавлю и сразу же выйду.
– Давай-давай, а то скоро ужо вода закипятится! – последовал ответ.
Ну что же, собой я налюбовался. Теперь можно и в комнату идти. Прикинуть что и как, чтобы сподручнее начать действовать.
– Петька, у тебя скоро курица в угольки превратится! Почти вся вода выкипела! – послышался окрик старухи, когда я вышел из ванной.
Во как, оказывается, у меня ещё и курица варится? Ну что же, судя по бурчанию в животе, это была неплохая новость.
– Иду, Матрона Никитична, спасибо! – откликнулся я и в самом деле поспешил на кухню.
Кухня коммунальной квартиры представляла собой гимн житию сообща. Тут трудно было собраться всем вместе и не помешать друг другу. Тут всё пропахло табаком и хлоркой. И тут чего-то не хватало… Но чего именно? Вроде вся кухонная утварь была представлена в полной мере. Пузатые кастрюли теснили тощие сковородки, черпаки на стенах выглядели как мечи на подставках кузнецов. Сверху над кухней грустно висело сохнущее бельё. Ножи, вилки, ложки – тоже всё было, но вот какой-то детали мне недоставало.
Так как в других коммуналках выделяли по одной газовой плите на три семьи, а у нас было четыре, то нам выделили две плиты.
На одной в самом деле стояло большое ведро с водой, а на другой начинала шипеть голая птица, планирующая перейти в разряд «куры-гриль». Пришлось добавить воды и даже потыкать упругую птицу – не стала ли мягче? Можно было не тыкать. Судя по внешнему виду, в бытность свою живой и здоровой, она на семь корпусов обставляла олимпийских бегунов.
Есть такую курицу можно, но долго и упорно. Что планировал сделать инженер? Суп? Ради бульона поставил?
Справа от двери был стол-комод Петра. В нём должны были храниться овощи, хлеб, макароны и то, что не успели сожрать тараканы. Значит, оттуда я должен был брать свои припасы и не скалить зуб на чужое. И тут до меня дошло, чего не хватало на кухне – холодильника!
Такой простой и привычной в быту вещи тут не было! То есть разные прибамбасы были, а вот холодильника не было. Похоже, что дорогая это штукенция для коммуналки семидесятого года.
Так как вода закипела вновь, то я решил остановить свой выбор на супе. Сварю на пару порций, чтобы скиснуть не успел. Однако, стоило мне только почистить одну картофелину, как начался концерт без заявок.
Из комнаты Игонатовых раздался женский вскрик, затем шум бьющейся посуды и мужской рёв:
– Да как же ты меня одолела! Мой выходной! Хочу и пью! На свои! На кровные!
Дверь с треском распахнулась. В коридор вылетела заплаканная Людмила, а следом за ней выскочил худенький Макарка. Я попался на глаза, и женщина тут же бросилась ко мне:
– Петенька, миленький, спаси! Можно у тебя Макара на ночь оставить? А я уж потом отстираю в случае чего…
– Да без вопросов, Людмила, – пожал я плечами и показал глазами на комнату. – Опять буянит?
Людмила только всхлипнула в ответ и отвела глаза. За дверью Шлейцнера послышался тихий шорох. Похоже, что старичок занял свой привычный наблюдательный пост.
– Людка, зараза! Куда убежала? Я ещё не закончил! Не сметь убегать, когда… ик! Когда с тобой муж разговариваит! – раздался пьяный рык из комнаты, а на пороге возник Михаил Петрович.
Покрасневшие стеклянные глаза уставились на стоявшую возле меня жену. Потом на меня, на Макарку.
– Чево вы тут шушукаетесь? А? Или договали… договариваетесь до чего? Может у него ночевать бушь? А?
Я на всякий случай выступил вперёд, закрыв телом Людмилу и Макарку, дружелюбно улыбнулся:
– Михал Петрович, может, хватит домашних кошмарить? У меня вон, чуть курица от твоего грозного рыка из кастрюли не убежала…
Михаил Петрович, широко расставив ноги и уперев руки в бока, скривил рот в недовольной ухмылке:
– Курица твоя пусть хоть где гуляет, мне до неё дела нет никакого! Зато жена моя должна сидеть дома и слушать мужа! Без разговоров! Потому шо она мне законная супруга, а не вольная птица! Макарка! Геть ко мне! Пошли, я тебя боксировать буду учить!