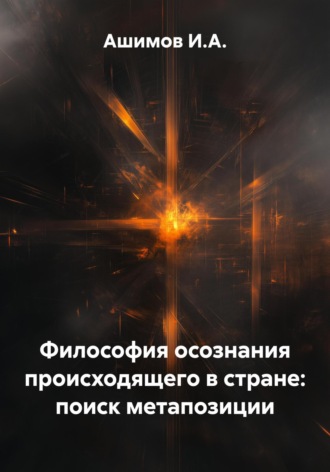
Полная версия
Философия осознания происходящего в стране: поиск метапозиции
Каракулов: Некогда от одного, на мой взгляд, настоящего старца-мудреца я услышал такие слова. «Посмотри на глаза людей из числа наших соседей – таджиков, узбеков. Ты увидишь в них огонь. Загляни в их душу – ты увидишь тот же огонь. Теперь взгляни на глаза кыргыза. В них не найдешь искры, у многих они как бы потухли, потух их взор, а заглянув в их душу найдешь только жидкость. Кыргызы себя потеряют в пути, тогда как узбеки, таджики, как впрочем и другие «живые» народы – будут процветать».
Все больше узнавая о сказанном я начал убеждаться в правоте сказанных слов. И вот почему? Попробую выполнить философское осмысление метафоры о «жидкости души». С высоты своих лет и опыта понимаю, что слова старца-мудреца оказывается несут в себе не просто критику, а глубокий, метафорический диагноз. Разумеется, он говорит не о биологическом вырождении, а о духовном и ментальном состоянии, используя мощные образы «огня» и «жидкости». В этом высказывании заключена, пожалуй, самая острая боль современного кыргызского самосознания: ощущение утраты внутреннего стержня.
Давайте проанализируем эту метафору. «Огонь» в глазах и душе, о котором говорит старец, – это, с философской точки зрения, пассионарность в её активной, направленной вовне форме. Это энергия, которая проявляется в конкретных действиях, в стремлении к развитию, в строительстве, в коллективном проекте. «Огонь» – это воля к преобразованию мира, которая, как кажется, движет соседей. «Потухший взор» и «жидкость души» – это, напротив, состояние аномии, утраты смысла и твёрдой формы. «Жидкость» – это материя, которая принимает форму сосуда, но не имеет своей собственной.
Как нам думается, эти метафоры экзистенциального кризиса, когда народ перестает быть субъектом своей истории и становится объектом чужих влияний. Эта «жидкость души» – это потерянные ориентиры, размытые ценности, отсутствие ясного вектора движения. Это состояние отражает переходный период между двумя мирами: кочевым, с его строгим кодексом чести и традиций, и современным, с его западными институтами, которые ещё не стали подлинной частью кыргызской души.
Почему произошла эта трансформация? Прошлое кыргызского народа было историей выживания. После падения каганата народ сосредоточился не на внешней экспансии, а на сохранении своей идентичности в условиях враждебного окружения. Это была пассионарность другого рода – не «огненная», а «жидкостная»: способность обтекать препятствия, адаптироваться, уходить в горы, чтобы не быть ассимилированным. Этот исторический навык, с одной стороны, спас народ, но с другой – сегодня воспринимается как пассивность, как-то «приспособленчество», о котором звучали голоса.
На наш взгляд, слова старца – это не приговор, а вызов. Философия не допускает фатализма. «Жидкость души» не является окончательным состоянием. Она – это не гниль, а состояние потенциала. Ведь жидкость может превратиться в лёд – твердую форму, или стать паром – чистой энергией, или же, приняв форму, начать двигать колесо истории.
Будущая трансформация кыргызского народа, о которой мы размышляли ранее, заключается именно в этом: во-первых, обрести форму, то есть использовать свои культурные коды – «Манас», язык, традицию «санжыра» – как сосуд, который придаст «жидкости души» твёрдую, ясную форму; во-вторых, разогреть эту форму, что означает найти новый источник пассионарности, не в завоеваниях, а в созидании. Это должен быть не огонь войны, а огонь творчества, науки, предпринимательства, культуры; в-третьих, использовать силу, то есть превратить кажущуюся слабость «жидкости» в силу, свойственную воде – способность обтекать препятствия и находить путь даже там, где его нет. Так или иначе именно адаптивность должна стать стратегией, а не пассивностью в этом бушующем мире.
В целом, слова старца – это, по сути, крик души, который призывает к пробуждению. Его слова не должны вызывать уничижение, а должны стать отправной точкой для самопознания и действий. Задача кыргызского народа сегодня – не подражать «огню» соседей, а найти и разжечь свой собственный, уникальный огонь, который дремлет под толщей «жидкости души». Это путь к истинной субъектности, где прошлое перестаёт быть причиной упадка, а становится источником силы для нового, уверенного движения.
Итак, в контексте формирование «Метапозиции» мы с тобой предались свободному философскому размышлению о сути кыргызского менталитета, о его традициях и вызовах современности, о ключевых аспектах, формирующих национальное самосознание и на этом основании предложить переосмысление некоторых феноменов. На наш взгляд, менталитет кыргызов представляет собой сложный феномен, находящийся на пересечении традиций и вызовов модерности.
Нужно всегда учитывать тот факт, что в отличие от европейского мировосприятия, ориентированного на настоящее и будущее, кыргызский менталитет глубоко укоренён в прошлом, что отражает особенный склад ума и мировоззрения. Этот «ментальный портрет» сформировался под влиянием уникальных исторических факторов, ландшафта и биосферных условий, что подтверждает теория Л.Гумилёва о порождении этноса ландшафтом. Горные и степные просторы оказали прямое влияние на кыргызский национальный характер, сделав его открытым, любознательным, прямолинейным и сочетающимся с поэтичностью и широтой души.
Кыргызчылык: это традиция или препятствие? На наш взгляд и то и другое. Понятие «кыргызчылык» вызывает противоречивые оценки: для одних это основа самоидентичности и наследия, для других – тормоз в развитии, ассоциирующийся с ленью и «социальным паразитизмом». Эта амбивалентность отражает постколониальный комплекс «ужасающей вторичности», когда народ воспринимает себя через навязанные извне критерии отсталости. Бывший президент Кыргызстана, А. Ш. Атамбаев, отмечал склонность кыргызов к лени, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
С философской точки зрения, кыргызчылык – это не добро и не зло, а проявление культурной инерции. Как нам кажется, его следует не отвергать, а реинтерпретировать, очищая от негативных элементов вроде коррупции и регионализма, и сохраняя гуманистическое ядро, такое как солидарность и этика родства.
В чем заключается суть номадического сознания и кризиса идентичности кыргызов? На наш взгляд, кыргызский образ мышления прошёл два ключевых этапа трансформации: переход от кочевого к оседлому образу жизни и вхождение в советскую эпоху. Кочевой этап сформировал такие черты, как космоцентризм, цикличность времени, коллективизм и природовосприимчивость. Вхождение в советскую эпоху привело к второй трансформации культуры, а обретение суверенитета – к кризису идентичности, вызванному попытками синтезировать традиционные установки с западными институтами.
Нужно подчеркнуть тот факт, что кыргызский менталитет, сформированный кочевым прошлым, находится в противоречии с западным типом мышления, несущим демократические ценности. Ключевые различия включают: во-первых, космоцентризм против антропоцентризма; во-вторых, циклическое восприятие времени против линейного; в-третьих, контекстуализм (осознание себя через род) против эгоизма и прагматизма; в-четвертых, трайбализм против культуры права. Следует признать, что единственным объединяющим элементом является динамичность, позволяющая легко воспринимать изменения. В этом аспекте, кыргызы – быстро адаптирующий народ и в этом его будущее.
Безусловно, трайбализм как отрицательное явление у кыргызов нужно преодолеть. Как? Трайбализм, определяемый как дискриминационное отношение по региональному или племенному признаку, является одной из болезненных проблем кыргызского народа. Он проявляется в условиях внутренней миграции и столкновения региональных особенностей. Философски это не просто политическая дисфункция, а искажение контекстуального мышления, которое изначально имело гуманистический характер. Для искоренения трайбализма необходимо не только правовое регулирование, но и воспитание, а также формирование единой психологии народа и развитие межрегиональной мобильности.
Безусловно, огромная роль в адаптации кыргызов является информационная среда и медиасуверенитет. Нужно признать, что информационное пространство Кыргызстана отличается открытостью, но находится под влиянием внешних информационных центров, которые формируют общественное мнение и могут не совпадать с национальными интересами страны. Эта внешняя медиа-зависимость воспринимается как новая форма колонизации. Для построения устойчивого национального самосознания необходим медиасуверенитет, который заключается в создании собственного медиапространства, транслирующего ценности, укоренённые в культуре народа.
В целом, важно четко понимать, что кыргызский менталитет – это не приговор, а ресурс для развития. Кризис идентичности, вызванный столкновением традиционных и современных ценностей, требует не конфронтации, а диалога и синтеза. Адаптация демократических ценностей к уникальной культурной матрице, преодоление трайбализма через воспитание и формирование медиасуверенитета – вот ключевые задачи для формирования устойчивой модели развития. Кыргызский народ должен использовать свою динамичность, открытость и сдержанность для достижения гармоничного баланса между традиционным и глобальным, чтобы прошлое стало опорой для движения вперёд.
Глава II. Прошлое как вызов будущему: кыргызская идентичность между памятью и проектом
Токтошев: Хотелось бы поговорить о кыргызской идентичности, ибо прошлое есть вызов будущему. Один из ведущих экспертов страны по вопросам истории, права, государственного управления З.Курманов в статье «О кыргызской цивилизации: миф или реальность?!» пишет о том, что «цивилизация» – наиболее емкий термин для обозначения основных границ, разделяющих человечество в прошлом и настоящем. Цивилизации не может быть одной универсальной, существует множество цивилизаций, отличающихся друг от друга по верованиям, культуре, образу жизни и хозяйствования.
Автор делает реверс в сторону прошлого кыргызов. «Государство кыргызов во 2 в. до н.э. являлось первым государством в Сибири, огромная территория которой превышал территориальную протяженность Европы. Была государственность: письменность, законы, бюрократия, административный аппарат, армия, полиция, тюрьма, налоговая и таможенная системы, социальная иерархия, сложившейся структура общества, ценности, соответствующие экономика и культура. «Это и было «локальной цивилизацией» в рамках понятий плюрально-циклического подхода к истории, под общим понятием «цивилизации», – пишет автор.
Да. У кыргызов была трудная судьба. В свое время вышла статья Б.Эркимбаева, в котором говорится о пути Кыргызстана от прозябании к собственной судьбе. «У каждого человека, как и у каждого народа, есть своя собственная судьба, исходящая из его сути, из его идентичности. Игнорирование своей сути приводит к исчезновению судьбы, к простому инерциальному биологическому существованию», – пишет автор. Но в мире случается и довольно часто, когда какой-либо человек или народ избирает для себя чужую, навязанную судьбу. В этом случае, человека сопровождают дисгармония, болезни, невзгоды, а народ вынужден испытывать постоянные катаклизмы, приводящие к его распаду и исчезновению. Пожалуй именно это и происходит в настоящее время с кыргызами.
Эксперта волнует сущностные вопросы судьбы кыргызского народа. Он пишет: «Сегодня кыргызы – это всего лишь часть мировой толпы, управляемой глобальными элитами. Процесс исчезновения кыргызского народа, переход его в состояние этноса практически завершается. Народ разделен по региональным, родоплеменным, религиозным, социальным и другим признакам. Большинство населения Кыргызстана нищее во всех отношениях, и прежде всего, в духовном. Поголовная ориентация на материальные ценности, земные блага и наслаждения сделала нас крайне уязвимыми, ведомыми самыми низшими вегетативно-анимальными энергиями», – рассуждает автор.
Но важен вывод, сделанный экспертом, в котором говорится, что «мы должны четко усвоить, что человек, подразумевающий себя кыргызом, абсолютно не предназначен для существования в той социальной структуре, которую мы имеем сегодня, он должен войти и активно существовать в сложной духовной системе». В этом кроется истина. Мы согласны с тем, что наличие государственности у кыргызов не должно нас обманывать. Политическая и экономическая системы нашего государства, его структура и законодательство сейчас не в полной мере отражают кыргызскую идентичность и реализованы по универсальным «лекалам», которые Запад навязывает странам «третьего мира».
Полагаем, что можно понять тревогу автора, так как история свидетельствует, что, к примеру, евреи не имели своей государственности в течение тысячелетий, но умудрились при этом сохранить свою идентичность. Обретение внешних форм для своего благополучного существования в этом мире, было для них лишь делом времени. Они воссоздали свою территорию, государственность и за короткое время стали высокоразвитой страной.
Да. У истории нужно учится. Пример с Израилем очень характерный в нынешние времена, когда происходит новый передел мира, в том числе путем агрессии. Некогда на территории Палестины еврейский народ укоренился и путем проведения политики постепенной и последовательной автономизации добилась отчуждение чужой территории и, таким образом, создали свое государство – Израиль. И что случилось сейчас? Тезисом еврейской военной политики в рамках Израиль-Палестинской войны, является полный разгром Палестины. Исходя из такого предательского обстоятельства Израиля в отношении Палестины, нужно и нам задумываться – разве нет такой угрозы сепаратизма у нас в стране?
Когда-то мы, кыргызы приняли мировоззрение (назовем его условно, западным), объединяющее ценности ислама, иудаизма и христианства. Затем мы освоили ценности двух идеологий Модерна: социализма и либерализма, которые, по сути, являются продолжением и разновидностями иудео-христианской картины мира, с тем отличием, что сакральное уступило место рациональному, а человек был поставлен в центр бытия. Наши деды и прадеды сделали все правильно, – для них это был вопрос элементарного выживания. Переживание этого периода «ученичества» было крайне необходимым для нас, чтобы не только выжить, но и научиться ориентироваться в обновленной внешней среде.
Если взять во внимание тот факт, что кыргызы четырежды теряли свою государственность, то можно понять эмоцию эксперта: «Мы обучились грамоте, теперь настала пора писать собственную историю, нужно раскрывать и использовать внутренние источники энергии. В той истории, в которой мы проживаем сегодня, нам уготована роль рабов, бездушных механизмов, на сто процентов зависящих от источников внешней энергии, аналогично тому, как автомобилю для движения нужен бензин, нужна энергия извне», – пишет автор.
В этом аспекте, все активнее звучит мысль, как сохранить свою идентичность? Безусловно, для кыргызского народа главными источниками для обнаружения собственной сути, своего рода духовными «золотоносными жилами» являются кыргызский язык и четыре кыргызских эпоса – «Манас», «Эр-Төштүк», «Семетей» и «Сейтек». Многие ученые мира разных времен и разных народов пытались восстановить праязык, руководствуясь принципом, что познание изначального мирового языка означает познание всего сразу и навсегда, т.е. обладание абсолютным знанием. Сейчас нет необходимости доказывать, что кыргызский язык соответствует всем базовым характеристикам изначального протоязыка, определенным Германом Виртом.
Сюжеты и образы основных кыргызских эпосов во многом совпадают с сюжетами и героями древних эпосов, сказаний и легенд тюркских, монгольских и даже европейских народов. Вместе с тем, кыргызы сумели сохранить веру в «живость» и вневременной характер своего главного богатства – эпоса «Манас». Только у кыргызов все эти сюжеты и образы, присутствующие у других евразийских народов в качестве отдельных фрагментов, сведены в одну большую единую картину.
На наш взгляд, язык и эпос – это философские универсалии. Они представлены как не просто средство коммуникации, а как онтологический код. С опорой на Германа Вирта утверждается, что кыргызский язык содержит в себе реликтовые элементы праязыка – первоформы смысла. И это верно. Особое внимание автором уделено слову «Ак» – как синтезу антиномий (белое/черное, добро/зло, истина/ложь). Это понимание языка как сакральной метасистемы перекликается с концепциями Хайдеггера о языке как доме бытия. Что касается кыргызского эпоса «Манас», то он представлен не как историко-литературный артефакт, а как культурная «матрица» – сакральный код этноса. Это не просто миф, а метафизика народа.
Каракулов: Согласен с тобой и с экспертами в том, что вопрос о кыргызской идентичности сегодня даже актуализировалась еще больше. Вы правы в том, что прошлое – это залог и одновременно вызов будущему. Я с большим уважением отношусь к Б.Эркинбаеву, который выдвигает идею о том, что цивилизацию нужно рассматривать как уникальность, а не универсальность. То есть центральная философская идея – отказ от универсализма в пользу цивилизационного плюрализма. Автор апеллирует к идее локальной цивилизации кыргызов, существовавшей задолго до колониального давления. Это не просто апелляция к исторической гордости, но критика парадигмы «одноразвития», в которой измерение прогресса осуществляется по западным лекалам.
Безусловно, истинное освобождение начинается с признания своей истории как полноценной и самодостаточной формы цивилизации. В этом аспекте, историческая память – не ностальгия, а ресурс будущего. Именно из неё, по мысли авторов, должен черпаться проект национального возрождения. В этом контексте, сошлюсь не менее уважаемого мною талантливого эксперта – А.Мамбеталиева, который в статье «Прошлое и будущее: два аспекта развития народов» пишет о том, что кыргызы слишком много внимания уделяют истории и слишком мало будущему.
Получается, что мы бесконечно ищем свою идентичность в прошлом – в юрте, одежде, платке, обычаях, традициях, а современные стили считаем западными, русскими, то есть привнесенными. Да. В ходе исторического развития человечества народы имели различные ориентации: на прошлое и на будущее. Обе эти ориентации несут в себе уникальные особенности, которые определяют их культурный, социальный и экономический путь. Однако, существует необходимость в сбалансированном подходе к использованию прошлого и стремлении к будущему для создания устойчивого и гармоничного общества.
Осмысливая тенденции в истории, философии, языкознании, географии, культуры, невольно приходим к мнению, что кыргызы почему-то выбрали «прошлое», а не устремление к будущему, забыв о настоящем. Нужно понять, что прошлого уже нет, будущее – еще не наступило. Согласитесь, народы, ориентированные на прошлое, стремятся сохранить свою идентичность через изучение истории, культуры и языка. Это позволяет им чувствовать связь с предками, укрепляя свою самоидентификацию. Они также извлекают уроки из прошлых ошибок, что помогает избежать повторения негативных событий.
Но, согласитесь, с другой стороны, народы, ориентированные на будущее, стремятся к инновациям и прогрессу. Они активно исследуют новые технологии, развивают науку и экономику, стремясь к созданию лучшего будущего для себя и своих потомков. Этот подход может привести к экономическому и социальному развитию, а также к повышению качества жизни. Но у нас на сегодня все больше слагается тенденция «возвращение к корням». Почему? Зачем?
Понимаем, что обе ориентации имеют свои недостатки. Слишком сильное увлечение прошлым может привести к стагнации и сопротивлению изменениям. В то время как слишком сильное стремление к будущему может ускорить процесс глобализации и утраты культурной идентичности. Как решить эту дилемму? На наш взгляд, важно найти баланс между уважением к прошлому и стремлением к будущему. Народы должны использовать уроки и традиции прошлого как основу для развития и инноваций в будущем.
На наш взгляд, именно это позволит сохранить культурное наследие и одновременно обеспечить прогресс и процветание в будущем. Поэтому важно уважать и бережно сохранять прошлое, но при этом не забывать стремиться к лучшему будущему. Однако, нужно акцентировать внимание кыргызского общества на то, что в стране слишком много внимания, средств, ресурсов отвлекают к вопросам поиска идентичности в прошлом, в ущерб стремлению к будущему.
Итак, в суждениях автора речь идет о балансе памяти и устремлений: критика крайностей. Цитируя А.Мамбеталиева, можно выдвинуть идею баланса между ориентацией на прошлое и будущим. Погружение только в прошлое ведет к стагнации, а слепое устремление в будущее – к утрате корней. Только совмещение культурной памяти и проектного мышления дает возможность национальной устойчивости. Между тем, это и есть философия меры: не отказаться от традиции, но превратить её в ресурс инновации.
Токтошев: С такой позицией я согласен. Профессор З.Курманов в своей серии статей «Уроки истории» рассуждает о роли культа предков и роли традиций. «Предки никогда не спят, они все видят, от них не спрячешься ни в этом, ни в другом мире. Поэтому люди боялись совершать плохие поступки, чтобы тем самым не опозорить своих предков и свой род, навлечь проклятье», – пишет автор. Возможно ли у нас такое? У кыргызов позор был несмываемым! Сын вора, даже если он был хорошим человеком, навсегда оставался в общественном мнении «сыном вора», его сын – «внуком вора», а его семья – «семьей воров». Позор падал на весь род и даже племя! И не было в этом никакой героики и почета, как сейчас?».
К сожалению, мораль и нравственность нынешних кыргызов упали «ниже плинтуса». Умение «жить красиво», кичится бай-манапским происхождением, гордится богатством и властью – становится чуть-ли не стандартом. Если в пошлом тот или иной негативный статус навсегда закрывал членам опозорившегося рода путь к богатству и власти, то сейчас этого чувства у людей нет, они после очередного позора и даже изгнания из Родины вновь и вновь рвутся в власти и через неге к богатству, к ресурсам.
Это, прежде всего, говорит о том, что народ потерял свой исторический нюх, смысл, ценности, извратился принцип коллективной ответственности, регулировавший доступ к богатству, управлению и общественной жизни народа. Если ранее скрыться от позора не давала санжыра (кыргызская родословная), которая, по сути, определяла каждого – кто его предки и какими делами они занимались, то сейчас в условиях беззубого медиа, покорности общества люди перестали скрывать свое воровство.
Рассуждение можно продолжить в ракурсе «Идентичность как судьба: возвращение к себе». На мой взгляд, это достойный философский тезис – об идентичности как судьбе. Цитата Б. Эркимбаева звучит почти по-гегелевски: «Игнорирование своей сути приводит к исчезновению судьбы». Здесь идентичность – не просто принадлежность, а экзистенциальная программа бытия. Утрата идентичности равнозначна утрате смысла. Однако, не менее сакральным является правдивое высказывание видного историка, публициста и всесторонне подготовленного эксперта международного уровня – профессора З.Кураманова – «Сегодня кыргыз теряет себя не потому, что он слаб, а потому что вынужден жить по внешнему сценарию – чужой социально-политической архитектуре. Современный кыргыз, по метафоре автора, живёт как автомобиль без собственного двигателя – на внешнем бензине». Метафора жесткая, но правдивая.
Автор пишет о том, что кыргызская традиция недопущения позора с введением рыночных отношений забылась по вине слабых политиков и откровенных манкуртов-рвачей, дорвавшихся до власти. И коррупция, преступность и прочие отрицательные деяния захлестнули теперь всю страну от мала до велика и до такой степени, что серьезно встает вопрос о дальнейшем существовании нашей государственности и способности нынешнего поколения политиков сохранить ее для потомков. Слишком уж они увлечены собственным обогащением любой ценой.
Мы бы громко подчеркнули тезис о том, что «Из-за таких кыргызы уже неоднократно теряли свою государственность!». Актуален и такое суждение автора: «Государственные меры, взятые из опыта европейских стран, не дают нужного эффекта, а потому не пора ли начать сознательно бороться с пороками современного общества, взяв на вооружение наши выстраданные временем обычаи и традиции, продумав механизмы их реализации, которые восстановят нравственную и моральную чистоту в обществе?». Это стопудовая правда.
Профессор З.Курманов в своем рассуждении вокруг трагедий кыргызской усобицы акцентирует внимание на то, что еще в 840 г. возник «Кыргызский каганат», ажо Барс-бек был признан тюркскими правителями первым каганом кыргызов. Но из-за междоусобиц кыргызское великодержавие пало. В середине XIX в. Ормон Ниязбек уулу – незаурядный исторический деятель, автор законодательных декретов «Ормон окуу» («Учение Ормона») пытался возродить кыргызскую государственность, объединить все кыргызские рода и племена в единое ханство. Однако, опять же из-за междоусобиц кыргызских племен государственность не состоялась.











