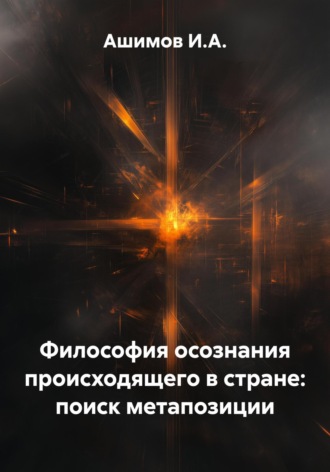
Полная версия
Философия осознания происходящего в стране: поиск метапозиции
Каракулов: Я бы обратил внимание на другой аспект этой проблемы. Историк Э.Битикчи пишет о том, что если спросить кыргыза, что было бы с ними, если бы не российское завоевание? То получит стандартный ответ: Кыргызов бы завоевал Китай либо Великобритания или же кыргызы бы стали феодалами как в как Афганистане. Кыргызы гордятся тем, что «лучшие сыны» приняли якобы мудрое решение о добровольном присоединении к России.
Таким образом, видно, что у кыргызов в колониальный период появляется какая-то излишняя самокритичность и комплекс неполноценности. Между тем, согласно постколониальной теории речь идет о явлении «ужасающая вторичность». И негативное восприятие кыргызчылыка и кыргызского менталитета как на уровне простолюдинов, так и на уровне образованных людей и даже на высшем, недоступном для первых двух типов людей, уровне, и есть отражение этой самой ужасной вторичности. Через систему образования, которая, казалось бы, несла свет цивилизации и просвещение, империи внушали покоренным народам их отсталость и свое превосходство, описывали свое трудолюбие и успехи и презирали своих новоподданных за их лень. Наши историк и правители так или иначе выступали как продюсеры данной реальности, включающей также «реальное прошлое».
Итак, что значит кыргызчылык: традиция или препятствие? Кыргызчылык, как социально-культурный феномен, вызывает противоречивые оценки: для одних – это форма самоидентичности и исторического наследия, для других – тормоз развития, форма лени и социального паразитизма. Но философски кыргызчылык – это не добро и не зло, а проявление культурной инерции. Его следует не отрицать, а реинтерпретировать, очищая от негативных наростов (клиентелизм, коррупция, регионализм) и сохраняя гуманистическое ядро: солидарность, этику родства, устойчивость бытия.
«Кто контролирует прошлое – тот контролирует настоящее; кто контролирует настоящее – тот контролирует будущее» (Джордж Оруэлл), и историческая наука в этой колонизации сознания играет не последнюю роль. Отсюда понятно, что «Новый период в культурной жизни киргизского народа начался после добровольного вхождения в состав России, которое явилось важным прогрессивным событием в историческом развитии киргизов. Киргизский народ навсегда связал свою судьбу с великим русским народом, познакомился с его передовой демократической культурой, которую несли представители передовой интеллигенции и рабочего класса.
Токтошев: Ты прав. Есть выражение наших современников, проживших еще в Советском Союзе: «Мы все из того времени». Полагаю, нам никак нельзя переиначивать свою «российско-советскую историю». С вхождением в состав России, вопреки колониальной политике царизма, в Киргизии начали пробиваться ростки культуры и просвещения, появились первые школы, лечебные и культурно-просветительные учреждения, заводы, шахты, стала развиваться торговля. Передовая русская культура послужила источником культурного прогресса киргизского народа, ее прогрессивное влияние коснулось всех сторон жизни».
Но есть и другая история. С развитием европейской исторической науки образ кочевников, живущих скотоводством и охотой, приводит к научно доказанному возникновению образа «грабителей-паразитов», «распутных кентавров», «трутней человечества». Может быть, в основе мыслей тот же кыргызчылык – паразитизм. И если лидер нации приписывает кыргызам лень, а кыргызчылык для него нечто ужасное, то пройдет немало времени, прежде чем кыргызчылык станет нормальным, а кыргызы избавятся от своей излишней самокритичности, от своей ужасающей вторичности.
Видный философ Ж.Урманбетова в своей статье «Специфика образа мышления кыргызов», как всегда «зрит в корень», сетует на то, почему в Кыргызстане не приживается демократия? Она считает, что в качестве основного тормоза в принятии демократических принципов выступает культура, исходящая в своем формировании и развитии из образа мышления. Для понимания причин нестыковки демократических стандартов и традиционного кыргызского образа мышления имеет смысл выяснить своеобразие этого самого образа мышления. По мнению автора, в развитии современной кыргызской культуры мышления можно выделить три наиболее важных этапа, обусловивших формирование традиционного образа мышления, соответственно менталитета.
По мнению автора, первый этап кочевого развития предопределил становление основополагающих критериев восприятия мира и, как следствие – специфику мировидения. Наиболее функциональными и, соответственно, судьбоносными чертами мышления номадов (кочевников) Центральной Азии явились следующие: космоцентризм, природовосприимчивость (экологичность), динамичность, пространственность (восприятие мира как бесконечное пространство), цикличность восприятия времени (природный цикл – от весне к весне), созерцательность, интуитивность, нерелигиозность (на тот момент исторического времени), контекстуальность (осознание себя в контексте рода, что обусловило проявление трайбализма), нерациональность, конкретность, формирование этнической (генетической) памяти в проекции горизонтальной преемственности (рядоположение предков в одну линию с собой).
Пожалуй, такая систематизация наиболее полная на сегодняшний день. По мнению практически всех отечественных историков, именно данные черты мышления заложили основу характера номада, передавались из поколения в поколение, образуя своеобразную традицию осознания себя, предопределили формирование инвариантной модели культуры (самостоятельной и независимой как следствие восприятия и понимания мира), на основе чего можно говорить о существовании номадической цивилизации в противовес оседлой. Данный образ мышления стал традиционным для кочевника, тем самым обусловливая своеобразие понимания себя в этом мире и существуя на протяжении веков. С течением исторического времени кочевники перешли к оседлому образу жизни, вследствие чего произошла первая сущностная трансформация культуры.
Безусловно, смена способа существования, несомненно, повлекла за собой преобразование некоторых характеристик мышления, на основе этого возник симбиоз основных кочевых черт мышления в преломлении к оседлым принципам мировидения. Но необходимо заметить, что функциональность традиционных черт кочевого мышления осталась на уровне подсознания как историческое предание. Все эти черты присущи и кыргызскому образу мышления.
Каракулов: На мой взгляд, не менее системной является характеристика второго этап развития Кыргызстана (соответственно кыргызской культуры), который начался с вхождением в эру советской идентичности, как следствие – вторая трансформация культуры в результате влияния советской идеологии. Этот этап наряду с позитивными моментами (определенный расцвет культуры) имел и негативные (национальное самосознание претерпело существенное влияние социалистических клише, специфика традиционного нашла свое отражение во внешних характеристиках, нежели внутренних). Ж.Урманбетова считает, что третий этап начался с обретением суверенитета, который обусловил всплеск национального самосознания, и, как реакция на идеологический пресс советского периода, возник процесс реидентификации по критерию традиционного.
Как нам кажется, именно поэтому возникла волна некоторой абсолютизации всего традиционного, а некоторые черты исторического мышления начали возрождаться по различным направлениям (в первую очередь это коснулось трайбализма, расцветшего всеми красками радуги). Одновременно с этим в качестве второй тенденции развития культуры выступила направленность на Запад (в виде вестернизации) как следствие ориентации на демократию. Соответственно, возник целый клубок противоречий, отразившихся на процессе идентификации, именно поэтому и возник кризис идентичности.
Согласен с мнением Ж.Урманбетовой о том, что многое зависит от специфики мышления. Действительно, учитывая, что основа традиционного мышления в массе осталась прежней, можно проиллюстрировать явные противоречия между традиционным и универсальным (прообразом которого выступает западный тип мышления, несущий с собой демократические ценности) образами мышления. Если основными характеристиками западного образа мышления являются следующие: во-первых, антропоцентризм, который выступает в противовес кыргызскому космоцентризму; во-вторых, технологичное мышление, подчиняющее себе природу, что в предстает как противовес органичной природовосприимчивости; в-третьих, превалирование временных критериев бытия, что входит в противовес явной пространственности мышления кыргызов; в-четвертых, время понимается прямолинейно в отличие от циклического восприятия у кыргызов; в-пятых, теоретичность мышления, что представляет противовес созерцательности и интуитивности у кыргызов; в-шестых, эгоизм и прагматизм, что входить в противовес контекстуализму кыргызов; в-седьмых, рациональность, что является противовесом эмоциональной нерациональности кыргызов; в-восьмых, абстрактность в отличие от конкретности кыргызов; в-девятых, вертикальная преемственность, когда память выстраивает предков по вертикали (в противовес горизонтальной); в-десятых, культура права в отличие от кыргызского трайбализма.
«Единственный момент, являющийся объединяющим кочевой центральноазиатский и западный образы мышления – это динамичность, позволяющая легко воспринимать изменения, происходящие в мире», – пишет автор и добавляет: – «Еще один момент – религиозность (явная нерелигиозность кочевого мышления с течением времени трансформировалась, когда ислам проявил религиозные предпочтения народов Центральной Азии».
Но, вместе с тем, необходимо отметить, что из всех центральноазиатских народов кыргызы и казахи наименее религиозны, причиной чего выступает все то же кочевое сознание. Скажем народы Узбекистана, Таджикистана заметно более религиозны. Однако, как нам кажется, эти государства и общества ведут более результативный диалог с религией, смогли наладить четкий контроль над религиозной деятельностью, ввели ряд новых требований к адаптации религии к интересам страны. У нас же, наоборот, контроля нет, отмечается всплеск религиозного сознания населения, а это когда-нибудь отзовется драмой. Таково наше мнение. Мы соглашаемся с тем, кто считает, что явное противоречие образов мышления (и, соответственно, норм культуры) выступает тормозом в восприятии и, главное, в укоренении демократических ценностей, взращенных на западном образе мышления.
Токтошев: Безусловно, демократия проецирует вектор государственного и общественного развития, соответственно, она может быть воспринята не только западными странами, но и другими в силу функциональности ее норм и стандартов в эпоху глобализации, именно поэтому и есть смысл не только провозглашать ее, но и внедрять. Однако либеральная демократия как отражение западного образа мышления и жизни, обнаруживает свою несостоятельность в традиционных обществах Центральной Азии. В любом случае универсальные ценности постепенно включаются и принимаются во всех обществах, это и есть проявление неизбежности потока глобализации.
«Наша динамичность и открытость (толерантность) должны послужить основанием для восприятия инноваций, а наша сдержанность и инстинкт самосохранения должны стать гарантом гармоничного баланса между традиционным и глобальным», – пишет Ж.Урманбетова. – «Естественно, что спецификой культуры мышления не исчерпывается неприятие демократических ценностей, и все же она составляет центральное противоречие в восприятии норм и стандартов западного, проекцией которого и выступают демократические ценности».
Да. Действительно, речь идет о кризисе идентичности: между традицией и демократией. Современная кыргызская культура мышления пребывает в состоянии гибридности: она пытается синтезировать традиционные установки с западными институтами. В этой точке пересечения возникает кризис идентичности. Кочевое мышление не сочетается напрямую с либеральной демократией: одно – циклично и контекстно, другое – линейно и абстрактно. Демократия как форма не может быть навязана. Она должна быть адаптирована под этнокультурный фундамент. В этом контексте Ж.Урманбетова верно подметила: сопротивление демократии исходит не из дикости, а из несоответствия культурных матриц.
Помнится эмоциональная статья О.Ибраимова «Пещерное сознание, пещерный патриотизм», в которой пишет о том, что Шопенгауэр, Фрейд правы, когда говорили о том, что в людях все еще крепко сидит неандерталец, тихо притаившись в каком-то темном углу нашего сознания, готовый выпрыгнуть в любой момент на арену, перечеркнув все достижения мировой цивилизации и человеческой эволюции с ее естественным отбором.
Да. Можно привести ряд примеров из жизни нашего кыргызского народа. Конечно обидно, когда китайцы, которые целый африканский континент поднимают с колен, не захотели иметь дело с нами, сокращая свои инвестиции в нашу страну. «С Америкой мы вообще разорвали дипломатические отношения. Это уму непостижимо! Мало того, что мы насквозь коррумпированы, еще и неугомонны. Нам бы ежегодно устраивать революции, заодно и вдоволь мародерствовать, на гуляй поле кыргызской свободы огромной толпой на площадях туда-сюда бегать, как «безбашенные». Как будем жить дальше?», – возмущается автор.
К сожалению, все это следствие не пещерного, то есть природного, а ужасающей вторичности и постколониального сознания. Мы лишь попытались вскрыть постколониальный синдром «ужасающей вторичности», где народ воспринимает себя через навязанные критерии «отсталости» и «лени». Колониальная власть формировала историческую подчиненность не только физическую, но и ментальную: формируя комплекс неполноценности у покорённого. И сегодня, когда лидер нации говорит о лени как о врожденном качестве, это отражает не действительность, а внутреннюю колонизированность мышления. «Кто контролирует прошлое – контролирует настоящее» (Оруэлл) – это не только о власти, но и о менталитете.
Молодой, но перспективный эксперт И.Курманов пишет, что среди ценностей кыргызского народа есть не только общемировые, характерные для всех, но и специфические. Например, уважение к старшим, к женщинам, младшим по возрасту, свои обычаи и традиции, коллективному мнению, отсутствие авторитарных традиций, коллективизм, право предков и т.д. Однако, вот с этим у нас проблемы. По мнению автор, это следствие того, что длительное время кыргызы проживали в составе чужих народов и цивилизаций и это отразилось неумением пользоваться своими ценностями. «Самым омерзительным является несправедливость при отборе кандидатов на госнаграды. Награждают не тех, кто заслуживает и заслужил, а тех, кто своевременно похлопотал. Так не может все время продолжаться.
«Наше государство должно взять политику в свои железные руки, а не пускать ее на самотёк», – высказывается эксперт. Ну, на самом деле есть у нас пробелы в справедливости. Справедливость в государственных делах, несомненно, должна быть, все должно обстоять в соответствии с государственными приоритетами и интересами, ибо, уже давно мы являемся современным государством, а не аморфным союзом племен и родов, или чьим-то феодальным уделом.
Каракулов: Кстати, такой же молодой, настырный и грамотный эксперт – У.Дуйшеналы в статье «Определение трайбализма, причины и программа её искоренения» акцентирует на создание единой психологии кыргызского народа – это всеобщая лексическая, традиционная, культурная и нравственно-этическая идентификация кыргызского народа с развитием географической и информационной мобильности для формирования единого национального самосознания, всеобщего патриотизма с искоренением трайбализма, который является одной из главных социально-психологических, а теперь уже и политической болезнью кыргызского сообщества.
Безусловно, трайбализм – это дискриминационное скрытое или открытое отношение к человеку по региональному и племенному признаку, основанное на стереотипно-ложных соображениях или обусловленное единично-случайными или многократно-системными наблюдениями за поведениями представителя противоположного региона или племени. Как известно, условием проявления трайбализма является внутренняя миграция, то есть приезд жителей регионов в столицу. И столица как бы собирает и сталкивает представителей всех регионов.
И здесь мы видим, что происходит столкновение различных факторов, незначительных особенностей традиций или обычаев и необоснованное стереотипное столкновение порочных взглядов. Отсюда следует, что минимизацию или искоренение трайбализма можно достичь откровенным признанием существования объективных причин межрегиональной критики и ликвидацией причин межрегиональных претензий и критики. при этом еще нужно понять и знать, что одним голословным призывом народа к сплоченности и наказанием человека за трайбализм, абсолютно искоренить трайбализм невозможно – нужно признать и ликвидировать и только ликвидировать причины межрегиональных претензий и критики (если причины будут доказаны).
Только правовая форма искоренения трайбализма не приведет к желаемому результату, так как человек не должен нарушать общепринятые правила жизни не только потому, что закона боится, но не должен нарушать осознанно, имея нравственно-этическое убеждение, тогда и не будет необходимости в законодательных запретах. Однако до определенной эпохи развития кыргызского общества, вполне допустимо одновременно пускать в ход обе формы искоренения: воспитательную и правовую.
Разумеется, образованные и воспитанные люди менее больны трагическим трайбализмом. Они менее стереотипны в сознании, потенциально умны и не судят по поступкам одного человека о целом регионе, они способны судить о человеке по его реально замеченным качествам и соответственно строить культурно-этическое отношение к человеку. Поэтому роль воспитания и образования поколения велика в свете Концепции педагогического сознания общегражданской идеологии Кыргызстана. Тем не менее создается впечатление, что такое «пещерное сознание» людей еще не скоро исчезнет, ибо еще много вздорных по сути, укороненных в народе «кухонных» трайбалистических суждений
Токтошев: Я знаком с этой статей и очень ценю автора (У.Дуйшеналы) как настоящего патриота своей страны. На мой взгляд, есть глубинная правда и рациональность в его предложениях. В итоге всеобщей традиционной идентификации искореняется столкновение элементов региональных обычаев и традиций, взаимная критика, споры и формируется общенациональная идентичность. Автор акцентирует внимание на значении географической мобильности людей. Ее значение заключается в том, что благодаря географической мобильности люди разных регионов теснее вступают в межрегиональный контакт, что обусловит ускорение всеобщей идентификации.
На наш взгляд, акцент выбран правильно. Речь идет об интенсификации коммуникации между народами севера и юга Кыргызстана. Следует учесть мнение академика А. Ч.Какеева о том, что юг и север Кыргызстана напоминают две чаши и во многом некоторая разобщенность народов проживающих в этих чашах объясняется тем, что протяженная и достаточно высокая горная кряжа служило препятствием к сближению и взаимной ассимиляции народов этих краев. В этом аспекте, строительство альтернативной дороги, связывающего юг и север является важной инициативой правительства. Речь идет о том, чтобы человек из одного края Кыргызстана легко перемешался в другой край.
«Теперь осмелимся справедливо объявить трайбалистов подлыми нелюдьми и предателями, которые грозно опасны единству народа и целостности государства, укреплению кыргызской государственности. Они враги собственного народа, тормозы прогресса, сеявшие смуту в сознание народа, зачинатели межрегионального злого стереотипа. Хотелось бы, чтобы следующее поколение не знало о том, что у нашего народа когда-то была проблема трайбализма и что народ когда-то страдал от этого. Поэтому очень важно основательно искоренить трайбализм и вообще вычеркнуть из истории», – эмоционально пишет У.Дуйшеналы. Несомненно, в таком разрушающем гармонию народности выработка единой психологии кыргызского народа, несомненно, станет ключевым шагом решения этой нелёгкой задачи. Самое неприятное то, что именно в среде национальной элиты сидят «отцы трайбализма» – идеологи этого явления.
Мы согласны с автором в том, что трайбализм следует рассматривать как философскую аномалию этноса. Трайбализм даже на сегодня является одним из наиболее болезненных тем кыргызского народа. Он проявляется там, где индивидуальность уступает место происхождению. Философски это не только политико-социальная дисфункция, но и извращение контекстуального мышления, которое изначально имело гуманистический характер (осознание себя через род, а не вместо личности). В этом аспекте, У.Дуйшеналы прав: трайбализм можно преодолеть только через воспитание и культивирование общей психологической культуры, а не одними запретами. Это требует не только гражданского, но и экзистенциального просвещения.
Известный религиовед К.Маликов в статье «Кто говорит с нашим народом?» заостряет внимание общества на вопросы информационной безопасности и медиасуверенитета Кыргызстана. Он рассуждает о том, что информационное пространство в Кыргызстане традиционно отличается открытостью и многоязычием. Благодаря культурно-языковому наследию, широкому использованию русского языка, значительная часть населения остаётся потребителем транснационального медиаконтента.
Тем не менее, важно понимать, что информационные потоки, поступающие извне, как официальные российские, так и оппозиционные, всё чаще сегодня несут в себе не только развлекательную и познавательную функцию, но и определённую идеологическую нагрузку. Они формируют взгляды, ценности и политические предпочтения, которые могут не всегда совпадать с потребностями и приоритетами самого Кыргызстана как независимого государства. И отсюда возникает резонный вопрос: кто же формирует повестку дня в кыргызстанских семьях?
В Кыргызстане уже давно звучат беспокойства, что значительная часть общественного мнения формируется не в результате внутреннего общественного диалога, а под влиянием разных и противостоящих друг другу внешних информационных центров. Это может сказываться на восприятии молодежью ключевых событий, на политической культуре, а также на отношении к самим институтам государства. Особенно это становится актуальным в моменты международных кризисов или конфликтов, когда восприятие событий через призму чужой повестки может не соответствовать национальным интересам Кыргызстана.
По мнению автора, особую роль в медиапейзаже играют телевизионные каналы зарубежных государств. Программы, производимые за пределами страны, становятся источником повседневной информации для миллионов кыргызстанцев. Но в последние годы наряду с телепередачами усиливается воздействие через цифровые каналы – Telegram, YouTube, TikTok, социальные сети. Это создает новую архитектуру информационного воздействия, где особенно уязвимыми становятся наша молодёжь, трудовые мигранты.
Действительно, в контексте информационной безопасность и медиасуверенитета, влияния медиа – это не что иное как новая форма колонизации. Как справедливо отмечает К.Маликов, информационные потоки сегодня – это идеологические каналы, формирующие ментальные ориентиры. Без медиасуверенитета невозможно построить устойчивое национальное самосознание. Здесь, на наш взгляд, перед нами стоит философская задача – создать медиапространство, где транслируются не только новости, но и ценности, укоренённые в культуре народа, адаптированные к вызовам глобализации.
Бесспорно, информационные нарративы, особенно связанные с военными действиями за рубежом, не должны затмевать гуманитарные, правовые и моральные основы внутренней стабильности. Уже зафиксированы случаи, когда отдельные граждане Кыргызстана, поддавшись внешней мотивации, принимали участие в военных конфликтах за пределами страны (Ливан, Сирия, Украина) без мандата нашего государства. Это вызывает вопросы не только юридического порядка, но и более глубокие – о границах гражданской лояльности, информационной податливости и национального самосознания. Автор призывает правительство и общество больше инвестировать в развитие национальных СМИ, создавая собственный высококачественный медиаконтент. «И это всё должно идти без нарушения свободы слова, без создания образа «врага», а напротив – через укрепление национального фундамента информационного пространства», – пишет автор.
Таким образом, наш краткий философско-культурологический обзор и анализ менталитета кыргызского народа – это попытка рассмотреть такой феномен в контексте исторического развития, социокультурных трансформаций и современных вызовов. Основное внимание нами уделено таким понятиям, как «кыргызчылык», номадическое сознание, постколониальное самовосприятие, трайбализм и влияние глобальной информационной среды. Рассмотрение этих феноменов через призму антропологии, культурной философии и постколониальной критики проводится переосмысление самоидентификации кыргызов в условиях давления универсальных (западных) и традиционных (локальных) ценностей.
По нашему мнению, в стране нужно акцентировать внимание нашего народа на философию синтеза вместо конфликта. Философия кыргызского менталитета требует нового подхода: во-первых, не конфронтации между традицией и модерностью, а поиска путей их диалога; во-вторых, кыргызчылык – не диагноз, а ресурс; в-третьих, демократия – не чуждый элемент, а форма, которую можно адаптировать; в-четвертых, постколониальное мышление – не приговор, а вызов к освобождению; в-пятых, трайбализм – не этничность, а искажение родовой культуры; в-шестых, информационная среда – не угроза, а возможность для самоформулирования. Рассуждая в этом ключе мы приходим к мнению о том, что нам нужен синтез – философский, образовательный и культурный. Только он способен вернуть кыргызскому народу уверенность в собственной ментальной ценности и сформировать модель устойчивого развития, в которой прошлое не тянет назад, а становится опорой для движения вперёд.









