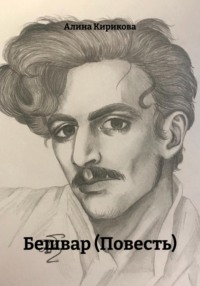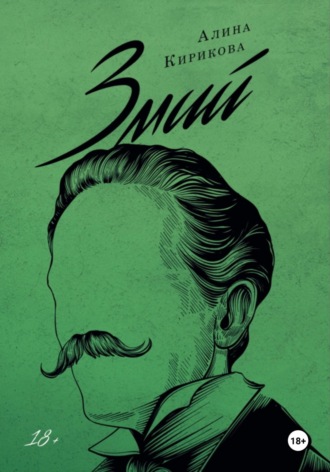
Полная версия
Змий. Часть II
Поглядев на меня прежним добрым взором, Альберт ничего не сказал, но улыбнулся уже знакомой мне благостной улыбкой, образовавшей возле его глаз с белыми ресницами маленькие морщинки. Но тотчас князь как бы устыдился своей доброты и потупил взор на стакан.
– Не верю, что ваша жизнь кончена, Альберт Анатольевич.
– Мне одиноко, Адольф, – завыл мощный голос.
Глаза князя заблестели, уста покосились вниз вместе с усами. Только Керр потянулся к бутылке, я отобрал ее и вылил все на пол. Какой-то выпивоха даже завизжал от увиденного.
– От шнапса вашей душе веселее не станет, – как бы разозлившись, высказал я. – Равнение налево, шагом марш! Нас ждет экипаж!
Мой взволнованный командный голос заметно позабавил Керр, он даже усмехнулся. Едва подняв друга, почти всем весом облокотившегося на меня, я направился с ним к выходу из кабака. Дорогой рассказал Альберту о Татьяниной записке и обещался показать ее по приезде ко мне домой. Но Керр, кажется, вовсе меня не слушал, он был как в забытьи: то улыбался на меня, то туманным взглядом выглядывал в окно, то хмурился.
Когда мы прибыли на Английскую, Мари не было дома. Иван передал, что мадам де Вьен собрала вещи и переехала на Моховую. До письма Тани дело не дошло, Альберт сразу уснул, как только добрался до дивана. Десять слуг пришли будить эту махину и, не добудившись, уволокли в гостевую комнату.
6 Décembre 1824
Так как лег я, по обыкновению, поздно, почти под утро, измучившись бессонницей, то, проснувшись в два часа дня, уже не застал Альберта. Иван Ефстафьевич любезно передал, что «г-н немец» ушел час назад и просил выразить свои глубочайшие извинения за вчерашнее, пообещал, что больше такого не повторится.
С утра соображал туго. Признаться, после отравления ядом на даче у Елизаровой голова моя в принципе стала хуже работать: плохо запоминает короткую последовательность цифр, адреса домов или новые имена. Пятого же никак не мог собраться, вспомнить, когда меня позвала Евдокия в Зимний, не верил, что ударил Мари, смеялся, что мне придется извиняться: «надо же выдумать, что я руку приложил! Не было этого», – уверял я себя, но кстати подвернувшийся Иван, наоборот, подтвердил, что мадам де Вьен явилась заплаканная, с опухшей щекой, просила льда и командовала собирать вещи.
Через два часа, закупившись цветами на Гороховой, я помчался на Моховую. Букет для супруги вышел превосходный, оранжевые лилии ярко запашились, а особенный держатель для цветов в виде трех граций облагораживал букет своими золотыми отливами. Пока ехал к Мари, так разнервничался, продумывая речь, что случайно оторвал листочек от стебля, так что мне пришлось проталкивать покалеченный цветок глубже в букет. С этим отломанным цветком и букетом в целом разум мой невольно провел параллель – в нашем с Мари ансамбле тоже что-то сломалось, было нечто, что мы старались упорно не замечать, но нельзя было сказать, что именно. То ли нас тяготила сломавшаяся любовь, то ли ее абсолютное отсутствие меж нами двумя.
Когда я вошел в особняк, Мария находилась в спальне. Робко минуя дверной проем, осторожно призакрывая за собою дверь, я напряженно вытянулся, впившись глазами в силуэт мадам де Вьен. Она стояла у окна, заложив руки на груди. Некоторое время супруга никак не реагировала на меня, хотя я видел по ее взволнованному дыханию, что мое присутствие не осталось незамеченным.
– Ежели вы думаете, что просто предо мною извинитесь, подарите свои жалкие цветочки и поцелуете ручку, я вас прощу, то стремлюсь вас огорчить. Прощать за то, что вы меня ударили, не собираюсь. Забирайте с собою свои цветы и уходите, – высказала Мари.
Любующимся, но в то же время разочарованным взглядом окинув прекрасный букет, я все же положил цветы на кровать и занял прежнее положение. Наблюдая за супругой, выжидая ее дальнейших действий, мною овладело странное чувство, которое, к слову, часто стало захватывать меня. Все сущее показалось отделенным от меня, нереально существующим, пустым воображением. На мгновение я даже перестал чувствовать вину за случившееся, полагая, что действовал исключительно в нереальности, что все было вымыслом, да и сам я будто вовсе не существовал – дунь, и нет меня, призрак рассеется.
– Вы еще здесь?! – прошипела мадам де Вьен, возвращая меня в реальность. – Посмотрите, что вы сделали с моим лицом! Как вы вообще посмели прийти после этого?! – стремительно приблизившись ко мне, продолжала она же, указывая пальцем на синяк у глаза. – Вы низкий человек, гадюка, ничтожество! Для того чтобы избить женщину, большого ума не надо!
– Ежели желаете, вы можете меня ударить в ответ, я это вполне заслужил. Даже хотел бы, чтобы вы меня тоже ударили.
– Нет уж, я не собираюсь падать до уровня рукоприкладства! – вскрикнула мадам де Вьен, от чего я вздрогнул. – Мне вот интересно, вы всех избиваете или только я удосужилась столь высокой чести быть вами отмеченной?! Любовниц своих вы тоже били?!
– Что вы такое говорите… – растерянно начал я, протягивая руки к лицу жены, но от меня она грубо отмахнулась. – Мария, я вовсе не специально, клянусь вам! Возможно, из-за накопившихся переживаний так вышло, что я выплеснул чувства на вас. Слишком виноват перед вам, простите меня… Понимаю, что плохо поступил, и… простите.
– Вы не можете быть прощены! – сквозь сжатые зубы проскрипела мадам де Вьен. – Накопились у него переживания! Ну надо же! Какие у вас могут быть переживания?! Живете себе в золотой клетке, картинки рисуете, спите крепко, кушаете сладко, по приемам расхаживаете с красивой дурой, ночуете где попало и у кого попало, купаетесь в лучах обожания! Даже теперь у вас виноват случай, а не вы! У вас все виноваты в том, что вы делаете! Ненавижу вас до отвращения! От одной только мысли о вас меня начинает тошнить!
– Вы все сказали? – вставил я, собираясь уходить.
– Начихать мне на вас и ваши извинения! – выкинула Аранчевская и, наивно полагая, что я стану упрашивать ее простить меня, кидаться в ноги и молить о помиловании, прошагала к прежнему месту, где пребывала в начале нашего разговора. – Проваливайте! Вонючий букет тоже можете забрать. Эти жалкие цветы в виде подачки мне так же не нужны, как и вы. А новые письма, буквально утрешние, от вашего цербера вам вышлю по почте! Прочтите ради интереса, чего мне ваш дружок понаписал! Его ненавижу до ужаса, вас ненавижу еще больше! О, почему вы не отравились?! Господи!
– Хорошо, – заключительно высказал я и поспешил удалиться из комнат мадам де Вьен, расталкивая перед собою двери.
Когда очутился в передней, заслышал, как каблучки Мари быстро сбегали вниз по лестнице, вероятно, чтобы настигнуть меня и задержать. Не позволив лакею довершить одевание, я дернул одежды и устремился наружу. Признаться честно, когда вышел от супруги, руки мои буквально чесались, я жаждал придушить ее и часто воображал это действо в своей голове, да так слился с ним, что был уверен, что задушил ее, что она теперь мертвая лежит на полу. Долго дергался, не знал, что делать с трупом, что сделают со мной за убийство, пока в меня не врезался газетчик.
– Свежие новости: убийство на Фонтанке, воровство на Апраксином, вырезанное семейство!..
– Вот, возьмите. Мне газету, – расплатившись, произнес я и, раскрыв страницу сыскных дел, прочитал: «в ночь с четвертого на пятое был убит князь Хмельницкий Герман Германович двадцатью ножевыми ранениями в грудь».
«Не может быть! Как убит?! – ошпарила мысль». Несколько раз я перечитал новость. «А ежели это я, боже?! Вдруг это я, но ничего не помню?! – пронзил меня испуг». Мгновение погодя кто-то меня толкнул, и газета выпала в лужу.
– Господи! – хватаясь за голову, вскрикнул я, как будто в размокшей газетенке заключались все мои мучения.
Не помня себя, я кинулся к В*, где хоть и с трудом, но опросил вчера всех, кто видел меня. В итоге пришел к тому выводу, что убил Германа Германовича не я. «Да нет же, точно не я, ведь тогда ударил Мари, потом выпал из экипажа, и меня оскорблял мужик какой-то… или как? Черт! Да когда же я видел мужика, до или после? – гудела голова, лихорадочно перебирая воспоминания, которые как попало перемешались». Встретившийся В* рассказал, что вчера я был обыкновенно красив и опрятен. «Значит, не я убил, раз красив и опрятен! Убил бы, был бы в крови! Стоп! А кто убил, кого убил? – соображал я, и чем больше думал, тем сильнее запутывался и, очевидно, сходил с ума».
Желая скорее пойти в церковь, я соскочил с лестницы и врезался в дверь, из которой на меня повалили господа веселою гурьбой. Шатнувшись в сторону, я навалился на стену, но та стена оказалась кабаком и живо отворилась. Итак, ни до какой церкви я не дошел. Посиделки у В* начал с алкоголя, продолжил картами, проиграв две тысячи, и кончил развратом на третьем этаже, высвободившись из бесовских бдений лишь глубоко за полночь.
– Где же ты, Бог! Накажи меня, покарай! Давай же! Ты еще не до конца размазал меня! Давай! – истерически завопил я в небо, выйдя от В*.
Но яростно свистящий ветер, вьюжа пространство снегопадом, глушил все мои выкрики. Какое-то время боролся с неистовством воздуха, накатывающего волнами, но вскоре меня сбило с ног, я поскользнулся на брусчатке и упал на спину, ударившись головой. Небо надо мною было черным, напирающим, давящим. Казалось, еще немного, и меня раздавит небесная темнота. Снег надо мною кружился в безумном вихре, царапая лицо. Тогда попытался встать, но головокружение не дало мне этого сделать, и я вновь упал назад, все так же ударившись головою. Как назло, никого вокруг не оказалось, нужно было спасаться самостоятельно. После третьей безуспешной попытки подняться я пополз, затем встал и, сильно качаясь из стороны в сторону, тут же спотыкаясь, падая, снова ползя и подымаясь, снова падая, раздирая себе ладони, набрел на ту самую церковь, в которой давеча присутствовал на богослужении. Поддавшись к тяжелым дубовым дверям, я попытался их открыть, но силы покинули меня.
– Боже, помилуй! – прокричал я, замерзшими и покорябанными руками дергая на себя дверь. – Господи, все сделаю, что прикажешь! Знаю, что виноват! Перед всеми виноват, но не хочу умирать, Господи, я искуплюсь, изменюсь! Пожалуйста, спаси меня, Бог мой!
Вдруг растворившиеся вовнутрь двери явили передо мною худого невысокого господина, которому я обессилено повалился на руки.
Шестого проснулся на затхлом диване. Сперва не открывал глаза, мне не хотелось, я делал вид, что все так же нахожусь в бессознании. До последнего надеялся, что со мной просто сделался нервный приступ, а происшествия на улице причудились во время тревожного сна.
– Учнулся барчук ваш, Вячеслав Николаевич? – прорезался любопытный шепот старухи. – Доктора бы, Вячеслав Николаевич. У вашего барчука убморожение и голова разбита. Помрет эфтот, а утвечать будете вы, Вячеслав Николаевич, уж никто не спросит: пьяный был ваш барчук али нет.
– Зинаида Петровна, перестаньте. А на доктора нет денег, сами знаете… – пробубнил высокий мужской голос.
– Так барчук протрезвеет да уплотит, – находчиво заметила старуха. – Наряды-то у него-то золотом ушиты, пуговицы с камушком. Давайте уборву, а эфому скажем, что на улице убворовали?
– Зинаида Петровна, в самом деле! – возмутился Вячеслав Николаевич. – Никого не надо обворовывать, что вы такое говорите!
Раскрыв глаза, я сел на диване, но тут же откинулся назад из-за головокружения. Комната, в которой находился, являла собою на редкость бедную обстановку: стены были обклеены старыми пожелтевшими газетами, по углам комнаты пребывали полупустые этажерки, а на скрипучем полу располагался лишь зеленый диван и кресло, где сидел сутулый господин, который, между прочим, показался мне знакомым, правда, как бы я ни пытался, вспомнить его не смог.
– Голова кружится, да? – неуверенно возник Вячеслав Николаевич, пряча от меня глаза. – Вам бы покою, поспать немного… Простите, что не предоставил вам более удобных расположений, ваше сиятельство.
– Вы кто? – едва выговорил я.
– Я… да я… да никто, собственно. Имя мое простое – Вячеслав, отчество Николаевич, а фамилия Оболонский… граф, – еще более сутулясь, представился господин, потирая костлявые руки с цыпками. – Ежели вы голодны, ваше сиятельство, могу предложить хлеба и маринованных огурцов.
– Ну уж! У нас нету! – возмутилась старуха, уставив руки в боки.
– Мне не нужно, благодарю, – ответил я, трогая больную голову. – Позвольте мне вас угостить, г-н Оболонский, как моего спасителя. Я теперь обязан вам. Только прошу, ни в коем случае не отказывайтесь.
– Вячеслав Николаевич сугласен! – вставила Зинаида Петровна, на что сам худощавый мужчина даже не воспротивился, лишь весь покраснел и выделал на своем лице что-то похожее на страдание, но страдание то было подленькое, ненастоящее.
«Вот хорошо, что я спас этого князя, есть чем поживиться взамен», – говорила физиономия Оболонского, хитро прищуривая глазки. Не подумай, дневник, я совсем не жадный, но выражение лица этого бедного графа мне совсем не понравилось и произвело на меня впечатление неизгладимое, точно босою ногой я наступил на склизкого гада.
Только Зинаида Петровна спровадила нас, нарочно хлопнув дверью, тут же раздалась невыносимая брань, кстати, за той же самой дверью. «Какая гадость, неужели кто-то действительно так живет? – глядя на мрачные стены лестницы, в углах облитые зловонией, ужаснулся я, заслонив нос платком. – Фу! А здесь даже рвота и чья-то пряжка от ремня… Пряжка, к слову, неплохая, но, скорее всего, ворованная, может, даже снятая с… Господи! Я ведь точно такую видел у Германа Германовича!» Вздрогнув, я обернулся на Вячеслава Николаевича, но тот, казалось, был спокоен, как удав, и глазом не повел, лишь поморщился, учуяв зловонию.
На Английской я накрыл настоящий пир, стол чуть ли не хрустел от кушаний, но Вячеслав Николаевич долго стыдился и не брал, тогда как я во всю лакомился перепелками.
– А можно я вот этого возьму? – тихо произнес г-н Оболонский, кивнув головою на малиновый мармелад Керр.
– Стол в вашем распоряжении, Вячеслав Николаевич, берите все, на что падает ваш взор. Правда, я бы отметил, что начать стоило бы с перепелы, продолжить паштетами и пирогами, а закончить сладким.
– Бабушка моя перепелу любила, – кротко заметил г-н Оболонский и, как подбитый звереныш, принялся покусывать зажаренную птицу, постоянно озираясь на меня пугливым взглядом, точно вот-вот и отберут у него угощения.
В конце трапезы я предложил гостю мандаринов с собой, но тот от всего отказался и вознамерился уйти. Задержав Вячеслава Николаевича тем, что предложил игру в шахматы, я принялся выуживать подробности вчерашнего вечера. Оказалось, что г-н Оболонский от самой церкви тащил меня до своего дома, где вымыл и обработал мне раны. Сначала я не поверил словам Вячеслава Николаевича, его фигура не представляла собой решительно ничего, кроме костей, обтянутых сухой кожей. Но вскоре полностью утвердился в им сказанном, одежды г-на Оболонского проявили передо мною следы запекшейся крови. Заметив, что мне открылась его окровавленная грязная рубаха, Вячеслав Николаевич застыдился, бросил партию и наскоро покинул меня, будто бы даже сбежав. Впрочем, оно и к лучшему. После общения с Оболонским я чувствовал себя преотвратительно, словно съел тарелку червей, перемешанных с грязью и обязательно с еще чем-нибудь неприятным, скользким и мерзким. Знаешь, дневник, я бы даже употребил, что меня тошнило душой, ее буквально выворачивало наизнанку, хотелось отмыться, отшоркаться от Вячеслава, притом что он не сделал мне ничего плохого, напротив, спас.
Вспомнить, где уже видел Оболонского, не смог, зато припомнил приглашение Евдокии Антоновны и сразу, как умылся и переоделся, отправился в Зимний, предварительно заехав за гостинцами. Приехал позже назначенного времени, а на входе вовсе встретился с великим князем Николаем, которому Дуня наплела, что наняла меня учителем рисования для фрейлин. Николаю Павловичу чувство юмора не занимать, он сказал мне: «здесь вам не Смольный, сбежать не получится». Фраза его прозвучала настолько серьезно, что даже устрашила, но меня похлопали по плечу и заверили, что бояться нечего.
Для наших уроков была выделена роскошная зала: посреди журчал фонтан, у которого поместили пять новеньких мольбертов, в углах болтали большие попугаи, по периметру зала были расставлены широкие кресла, вазоны с цветами и столики с экзотическими фруктами. Стоило мне войти, один из попугаев загорланил: «Змея! Змея! Андрюшка – змея!» Дуня, стукнув клетку попугая веером, устремилась ко мне, протягивая руки, как давнему знакомому, и облобызала на французский манер. «Змея! Змея! Андрюшка – змея!» – повторил красный ара.
– Добрый день, милые дамы, – начал я, как с Софией вдруг случился приступ неудержимого смеха.
– Соф, что же ты, в самом деле? – обозлилась Евдокия, на что ара вновь начал горланить. – Стукните кто-нибудь этого попугая!
– Приятно, что вы рады меня видеть, – произнес я, морщась на ара. – А птицы ваши удивительны, должно быть, вам с ними всегда весело.
– Обхохотались, – закатив глаза, заметила Дуня и тут же любопытно добавила: – А что у вас там, в коробках? Что-то к чаю? Да, слушайте, поглядите-ка быстренько на наши рисунки и пойдемте кушать, а то я устала. Вы-то припозднились на целых два часа, мы без вас всякое написать успели. За чаем заодно и с вами побеседуем. Мой Додо подарил мне какой-то таежный сбор – унюхаетесь ароматом!
– Пойду, прикажу чаю ставить! – весело проявилась одна из фрейлин и, отобрав коробки, спешно удалилась из зала.
– Дуня, ну что за слово «унюхаетесь»? – расхохоталась Соня. – Еще и Додо назвала…
– А что, виновата, что ли, что он на этого динозавра похож?
– Погляжу, у вас действительно весело. А мне, к слову, сказали, что вы всегда грустны, София, – мягко начал я, но две другие фрейлины меня оборвали выплеском:
– Это она у нас только сегодня так веселится, а обычное у ней лицо недовольное. Соня у нас «tri-pri» (triste princesse – грустная принцесса). Она и не смеется, и приказывает частенько, начиная со слов «не сметь», вот и сошлось!
– Совсем так не начинаю, – опровергла Леманн. – Адольф де Вьен, поглядите на работы, и пойдемте чаю кушать.
Просмотрев выполненное, мы перешли в гостиную, убранство которой во многом напомнило мне Екатерининский. Золото стен сияло ослепительно до головокружения и резало глаза. Дуня же, напротив, как человек дорвавшийся и жадный, слишком радовалась роскоши и даже как бы хвасталась передо мною тем, что живет в этих интерьерах. Около часа мы беседовали о прошлом, Евдокия расспрашивала меня о ситуации на даче г-жи Елизаровой. Что примечательно, фрейлина часто выдавала неожиданные подробности, о которых никак не могла знать. Потом Правдина призналась, что обо всем ей доложил известный уже Додо, лично участвовавший в расследовании. Другие фрейлины, в свою очередь, только хихикали, пока мы говорили с Дуней. В особенности они посмеивались над Софи. Одна все приговаривала: «скажи князю сейчас, или мы сами скажем!» Леманн игнорировала фрейлин и молчала, кушала зефир, который я принес к чаю.
– Ты чего обиделась-то? – взъелась Евдокия на Софи. – Адольф, вы представляете, она обижается на то, что девчонки называют ее императорской дочкой! Всем бы такое название, и, собственно, чего правды-то стыдиться? Когда мы узнаем, а мы непременно узнаем, двумя чертами подтвердится же, в самом деле!
С этим же София встала с места и поспешила на выход.
– Зозо! Зузенька, куда же побежала? Вот опять! – бросила другая фрейлина.
– Вы сказали Зозо?.. Помнится мне, я уже слышал это название, – замешался я, припоминая речь Себастьяна. – Извините, дамы, я сейчас.
Выйдя следом за девушкой, я оказался в живописной комнатке с атласными пуфами, на одном из которых, теребя подушку, расположилась Соня. Осторожно присев подле Леманн, я вгляделся в ее изящный стан, востренький лисий профиль и простое белое платье с интимно загибающимися кружавчиками вокруг декольте. Обращенное ко мне ушко Софи, розовое и аккуратное, бережно сдерживало каплю жемчуга, увенчанную маленьким бриллиантом. Как только девушка принимала больше усилий к подушке, эта сережка вздрагивала и ударялась о прозрачные ланиты с голубыми венами. Глаза Софи, кажется, готовы были расплакаться и наливались слезами, но она изо всех сил сдерживала подступающие чувства.
– София, давайте поговорим? – начал я и ненадолго задумался, с чего начать диалог. – Дуня рассказывала мне, что граф Терехов принимает серьезные попытки покорить ваше сердце и позиционирует себя как будущий жених. Понимаю, что являюсь последним человеком, с которым вы бы стали обсуждать сердечные дела, вы видите меня второй раз в жизни, но все же будет лучше, ежели вы выскажетесь хотя бы мне. Я сохраню ваши слова в тайне и клянусь никому ничего не рассказывать. Евдокия описала Алексея Петровича основательным, крепким человеком. Так почему же вы не решаетесь связать судьбу со стабильностью? Больших доходов от него ожидать не стоит, зато он состоялся в жизни, ни вы, ни ваши дети не умрут с голоду. Ежели вы думаете, что, выйдя замуж за богатейшего дворянина из высшего общества, вдруг станете счастливой, то спешу вас разочаровать: все бальные персонажи по уши в долгах, и, кроме того, большинство из них абсолютно пусто и живет изо дня в день самой обычной, приземленной жизнью.
– И у вас мир ограничен деньгами! Я была о вас лучшего мнения! – произнесла Соня, оскорбленно взглядывая на меня ярко-зелеными глазами. – Да, бесспорно, состояние важно, с этим я не спорю, но все-таки жизнь должна строиться на любви. Не могу жить жизнью большинства: рожать детей от нелюбимого, зато богатого человека. Хочу любить и быть любимой, хочу выйти замуж за любимого человека, родить в большой любви детей, просыпаться каждый день только со счастливыми мыслями, и каждый вечер, сидя перед камином, глядеть на своего человека и осознавать, что он большая удача, что он меня так же любит и уважает, как и я его, – быстро смахнув прыснувшие слезы, высказалась девушка. – Пусть буду одна хоть всю жизнь, пусть умру в бедности и глубоко несчастной, но я не собираюсь подбирать хоть «что-нибудь» для «лишь бы было», чтобы потом подружкам и родственникам хвастаться, что у меня есть какой-то там человечек для ублажения прихотей, что у меня есть хоть какой-то замуж! Я не Дуня, чтобы всюду вынюхивать выгоду и коллекционировать богатых ухажеров. Желаю по-настоящему, желаю, чтоб меня уважали, чтоб любили, и ежели мне не дано, то пусть умру.
– Что такое для вас любовь? – спокойно спросил я.
– Любовь для меня – камин с вечно разгорающимися деревами. В камин, как и в любовь, нужно подбрасывать дрова. Ежели бросить огонь, перестать за ним глядеть, то старые доски потухнут; любовь так же, ежели не подбавлять жара в любви и отвлекаться на постороннее, то всякая любовь обзовется страстию и рано или поздно угаснет насовсем. Вы так подскочили, г-н де Вьен, как будто бы я наговорила вам абсурда. Пусть и так, я весьма наивна и верю во что-то большее, чем в сухой расчет, но я – это я. Ежели мои слова вам неприятны, вы можете со мною не общаться, ибо не обязаны уверовать в то, во что верю я, но лишь об одном прошу: избавьте меня от излишней полемики. Мне надоело переубеждать, не хочу. Мне и без того больно, и без того я страдаю.
– Ваши слова глубоко тронули меня. И я с вами полностью согласен, – выразил я и принялся ходить по комнате. – Удивительно, как вы в свои восемнадцать до этого додумались.
– С чего вы решили, что мне восемнадцать? Из-за того, что я смолянка? Схема поступления в институт достаточно сложна, я вам не собираюсь ее объяснять. По большому счету я и не хотела учиться, потому как умна и без института, но родственники настояли. Мне двадцать четыре, я уже давно старая дева.
– Вы не так меня поняли, совсем не про старую деву хотел сказать. Такую мудрую, как вы, наблюдаю в первый раз, поэтому и спросил, неужели вам всего восемнадцать, – выдал я. – Прошу, простите меня, ежели проявил невежество к вам.
– Не извиняйтесь, г-н де Вьен. Это я слишком груба. Не знаю, право, что на меня нашло. Набрасываюсь на человека, видите? – вздохнула Соня и, застеснявшись пристального взгляда, перевела внимание на подушку.
Тоненькие пальчики с просвечивающими венами теребили рюши атласной узорчатой вещицы с такой любовью, что я невольно залюбовался и затаил дыхание. Солнце с окна вновь, как и тогда, когда впервые видал Софи, окрасило ее русые волосы в яркую медь. «Гляжу на нее и не могу понять. С одной стороны, Соня невообразимо очаровательна и нежна, кажется такой невинной и воздушной, с другой же она – мощь и сила. Только, например, с Альбертом вяжется мощь и сила, а с этой хрупкой девушкой совсем нет», – изучал я. Еще странно вот что: мне показалось, что Соня будто заранее приготовила свой монолог и говорила его из большой на кого-то обиды. Таковые выводы я сделал потому, что она в разговоре глядела порою куда-то вверх, как глядят, когда на ходу сочиняют или силятся вспомнить давно выдуманную ложь. Изумившись воцарившейся тишине, девушка подняла удивленные большие очи. Ее взгляд буквально впился в мое тело, заставляя сердце больно сжаться. Тогда я чего-то вздрогнул и скованно отошел к двери, ощущая свои движения нелепыми.