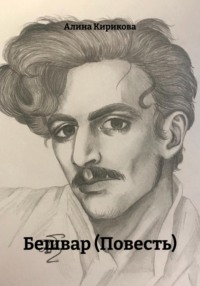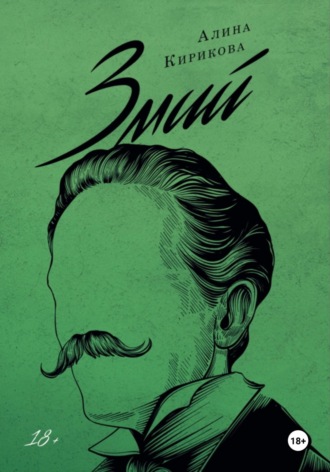
Полная версия
Змий. Часть II
Начавшийся суд меня не удивил, равно как и заключительное следствие. Однажды я подслушала, как Миша Баринов разоблачает маму и называет ее «Марфа Емельяновна», так что все последующее меня нисколько не удивило; мне было жаль папу – он добрый, славный человек… он чем-то похож на вашего друга, на Альберта Анатольевича. Только г-н Керр ко всему тому же еще со стержнем, а мой папа без стержня… он, как глина – лепи, что хочешь. Простодушный, как дите, поверит чему угодно.
Не знаю, как теперь вы живете с Мари, до конца вашу княжну так и не поняла… Надеюсь, что в ваших с ней отношениях все хорошо и вы счастливы. Но я не уверенна в том, что она вас любит, у ней какие-то другие идеи, чувства и планы на вас. Не в обиду к вам будет сказано, но я часто замечала, что Мария и Миша проводят время вместе. Каким бы ни было мероприятие, где я видела их или слышала о них, будь то званый обед или кружок, они всегда уединялись.
Простите всех, милый князь. Помните, что всякая история должна заканчиваться хорошо. Любовь и добро должны побеждать зло. Месть лишь порождает новое, еще худшее зло, но не побеждает его, не порабощает. Вы, разумеется, вправе поступать так, как вам угодно, но все-таки я бы попросила вас прислушаться к моему совету…
Но мама моя, Адольф, вот что еще хочу сказать, клянусь вам всем, она не виновна, не она вас отравила! Мама была все время со мной. В тот вечер, перед вашей свадьбой, я спала у ней в комнате, мы говорили о вас, но не плохое. Да, не скрою, сначала мама злилась, жаловалась на тон на ваш, меня укоряла в том, что я не могла сдержать плана и все испортила безалаберностью своей, но потом она сама же во всем раскаялась и заплакала. Мы вместе плакали и обнимались. Вместе вас жалели. Адольф, поверьте мне, пожалуйста, что сплю я чутко и от мамы не отходила утром. Нас даже приготовляли в одном будуаре, и тем утром у нас была настоящая семейная идиллия. Не она вас травила! Не она! Услышьте меня! Не моя мама вас травила, клянусь вам!
И… пожалуйста, помогите моему любимому папе. Я знаю, он впадет в отчаяние, когда узнает… но все-таки он должен жить и быть счастливым. Помогите ему обрести надежду… это все, о чем я прошу… это последнее.
Люблю вас, Адольф, и, так скоро погибая, я думаю только о вас, надеясь, что вы не оскорбитесь ни моим письмом, ни моими признаниями, в том числе любви. Я не хочу вызвать в вас сочувствия, жалости, злости или вины. Моя душа будет покойна тогда только, когда вы будете счастливы. Пообещайте, что вы будете счастливы?.. Искренно желаю вам счастья, пусть ангелы оберегают вас… пусть Господь поможет вам в вашем творчестве, посылая вам вдохновения. Ваши картины – это лучшее, что могло произойти в наш несчастный, лживый век, они, картины ваши, достойны того, чтобы их любили, достойны света, вы достойны признания. Ваш талант – большой дар, непременно развивайте его, не бросайте.
Ваша Татьяна Дмитриевна бесфамильная».
Дочитав письмо, я разрыдался. Когда свеча догорела, я почувствовал на своей руке жжение – то был растаявший воск, слезами скатившийся с опустевшего подсвечника.
4 Décembre 1824
Днем был в церкви впервые после венчания. Случилось это спонтанно. Возвращаясь от отца, выглянул в окно экипажа. Внимание привлекла толпа у церкви, и что-то само потянуло войти внутрь. У алтаря шла литургия, а хор постоянно повторял: «Господи, помилуй». Что-то вызвало во мне саркастичный смешок, я принялся оглядываться по сторонам, как бы выискивая того, кто бы со мною посмеялся. В оправдание свое замечу, что весело мне было не по-настоящему, не от молитвы или голосов, не от молящихся и не от веры их, а от себя самого. Мне вдруг показалось, что я настолько грязен, захламлен пошлым прошлым, что никакая молитва не поможет моему существу, никакая исповедь, никакой батюшка. Тогда же передо мною предстала икона старца, который глядел в мою душу не отрываясь. Казалось, священное лицо печалилось, жалело меня и постоянно вопрошало: «кручинишься, Адольф? Мучаешься тяготами? Чувствуешь вину?» Услышав его вопросы, лицо мое задергалось, ком подступил к горлу. Долго я мужался, держал себя в руках, но скоро не выдержал и разревелся. Недолго старался скрыть плач, прикрывался рукой, но всхлипывания все же прорвались сквозь пальцы. Когда литургия закончилась, ко мне подошел священник, перекрестил меня, обмазал лоб пахучим маслом и по-отечески обнял. «Носи крестик, сын мой. Да прибудет с тобой Господь и избавит от лукавого», – сказал батюшка. От этого священника веяло безмерной добротой, чистотой и сверхъестественной энергией, кроме того, он показался мне невероятно красивым, самым настоящим ангелом, сошедшим с небес. Хотелось обнимать батюшку бесконечно, питаться его благодушностью, но в то же время я чувствовал, что не смею требовать больше, чем мне было дозволено получить в настоящий момент. Когда священник отошел от меня, я вдруг поразился: «это был тот самый лик с иконы, господи!» Тогда же, оглядевшись, не заметил никакого священнослужителя, но обрамленное в золото лицо иконы уже будто улыбалось мне, в нем не было прежней печали.
Выйдя на улицу, твердо решил заказать памятник на могилу Татьяны, а также отыскать свой крестильный крестик и носить его всегда. По пути к скульптору нарисовал графиню Фемидой. Правая рука Тани указывала пальцем как бы на виновного, несколько вперед и вниз, левая удерживала в руках весы, а за спиною ее раскрывались пышные крылья. Скульптор сказал, что постарается сделать Татьяну за два месяца, а также просил приезжать на неделе проверять работу.
Вернувшись в особняк, сразу начал приготовления к Девояновской субботе. Встретился с супругою только поздним вечером, когда спускался к экипажу. Мария выглядела замечательно в новых нарядах, я не удержался и сделал ей комплименты, на которые она лишь фыркнула. Следом хотел заговорить о беременности, но стоило мне поднять тему, как мадам де Вьен пронзила меня взглядом. «Право слово, уже и о детях поговорить нельзя. Всяко ей не то», – притих я.
– Только посмей с кем-то заговорить о моей беременности! – проскрежетала мадам де Вьен. – Придушу и глазом не моргну!
– Не понимаю, собственно, почему? Глупо скрывать беременность, когда ваш живот слишком заметен, Мария. Считай, вы готовы рожать со дня на день. И чего вы злитесь-то все? Мне уже и слова сказать нельзя.
– Потому что я тебя ненавижу! – закипела Мария. – И церберу своему скажи, чтоб он ни с кем не говорил о вчерашнем между нами с тобой! Только нравоучения научился выстрачивать, а молчать он не научился!.. Это ты его надоумил?!
– О чем вы?
– А ты, бедный и несчастный, прям в неведении?! Вот у бешеного цербера своего и спроси!
– Во-первых, вы слишком грубы. Хватит оскорблять моих друзей и меня. Во-вторых, я действительно не понимаю, в чем дело.
Показательно отвернувшись, мадам де Вьен гневно пропыхтела в окно до самого армянского дома, где к тому времени собрались почти все гости. Перед входом к Девоянам, окинув княгиню скользящим взглядом, я не заметил на ее лице никакого гнева, всю злобу как рукой сняло. В передней нас встретили хозяева вечера. Сначала г-жа Девоян сомнительно на нас посмотрела, перемешивая в своем уже увядшем лице негодование, злость и блеснувшие морщины презрения, но скоро взяла себя в руки и приветствовала по обычаю. Г-ну Девоян, уже не отличавшему одно лицо новоприбывшего от другого, было решительно все равно, кто и с кем пришел. Движения князя выходили механическими, ненастоящими. Артур Девоян, повторивший выражение лица своей матери, замешался и быстро заморгал, точно стараясь тем самым рассеять удивительное видение, но когда мы поравнялись, а Мария кокетливо скинула в руки лакея накидку, обнажая свое роскошное декольте, в глазах Артура заискрилось пошлое вдохновение. Князь даже поклонился мне не как бывшему товарищу, а как высокопоставленному лицу.
– Наш милый князь! – басовой волной прогремел голос Керр, кинувшийся обнимать меня. – Вы пришли! Мы уж думали, что не явитесь.
– Почему это? – удивился я.
– В газетах написали, что вы в монахи подались, по церквям расхаживаете, со священниками обнимаетесь да целуетесь, – явился Розенбах, поднося нам бокалы белого вина.
– Думала, вы намекаете на нравоучительное письмецо, наивно полагая, что из-за глупых наставлений я откажусь явиться! – обращаясь к Альберту Анатольевичу, зашипела Мари.
– Должен же вас хоть кто-нибудь начать воспитывать, – как-то жестоко улыбнулся Керр.
Вдруг зала затихла, гул разговоров резко обрубился. В дверях, где появлялись прибывшие гости, возникла покачивающаяся фигура Мишеля Баринова. Безучастно оглядев присутствующих, князь вперил небесного цвета глаза в меня. Чем ближе хромой Баринов подавался в мою сторону, тем более бледнела Мария, а подошедшая к супругу Лале, то есть Вильгельмина (никак не могу привыкнуть к ее новому имени), нахмурилась, пытаясь сообразить реакцию публики и как себя вести.
– Ну рад за вас, что сказать! – произнес Мишель, крепко обнимая меня и похлопывая по спине.
– Вы как здесь? – удивился я.
– Досрочное за хорошее поведение, – ответил Баринов. – Батька постарался, чтоб тебе скучно не было.
– Усы вам не идут, – проявилась мадам де Вьен, слегка толкнув меня.
– О! Зато вы хорошо подходите Адольфу, ма-дама де Вьена, как ему его усы. Мне уже рассказали, какой у вас счастливый брак! Небось каждый день друг другу театральные представления устраиваете? – бросил Мишель и, потрепав меня за плечо, отошел к Бекетову.
Вскоре показались Елизаровы, которые привели с собою располневшего и поседевшего Дмитрия Павловича. При виде меня Елизавета Павловна вытянулась. Казалось, что ей страстно желалось выделать какую-нибудь пакость, но подскочившие обожатели смешали ей замыслы. Княгиня, как и всегда, была красива и молода. Стоило ей войти, многие стали перешептываться о ее удивительной для своих лет молодости, о том, как утончен вкус ее. Притом всякий глядел на меня, выжидал, что я скажу и как себя поведу. Каждый будто был осведомлен в том, что я когда-то любил Елизавету Павловну, или, по крайней мере, каждый знал, что нас связывало нечто большее, чем несостоявшаяся свадьба с Таней.
После балета гостей пригласили на ужин. Столы расставили по всему периметру громадного зала прямоугольной змейкой. Время я провел, участвуя в беседах с Тригоцкими и Швецовыми, они сидели прямо передо мною. Но вот, когда я, наконец, отвлекся от всевозможных разговоров и впал в отчужденное от мира состояние, заметил, как в противоположной стороне за мною внимательно наблюдает хорошенькая особа. Сперва я не опознал эти кокетливые глаза, но затем вспомнил, что уже видел их сегодня. «Как же так?», – подумал я, – «…где такое видано, чтобы какая-то балерина находилась среди нас, за одним с нами столом? И зачем ее туда усадили, а главное, кто позволил?» Не выдержав моего изучающего взгляда, балерина решила улыбнуться.
– Адольф, куда вы постоянно смотрите? – враждебно насупилась мадам де Вьен, с неподдельным интересом выглядывая за спины Швецовых.
– Вот все думаю, почему балерина сидит с нами за одним столом? – ответил я, зарываясь в смешанных чувствах.
– Она – воспитанница графини П*, – объяснила г-жа Тригоцкая Катерина Михайловна, заговорщически поддавшись вперед. – Сама удивляюсь, как ей до сих пор в ее-то возрасте и невыгодном положении дозволяют шпагаты крутить.
– Это, моя дорогая, что называется, дожили! – отозвался Андрей Георгиевич Тригоцкий. – Во время моей молодости, значится, подобное могло существовать лишь в виде водевиля.
– А я считаю – пусть пляшет, пока есть что показать, – добавил Бекетов, тем самым, по обыкновению, заставляя своего отца поперхнуться едой и закашляться, а Баринова рассмеяться.
– Петруш, ты думай, что говоришь, – твердо вступила мать князя. – Порядочная особа не должна скакать по сценам.
– Какой стыд! – заворчали присутствующие.
– Ну действительно, даже я смутился. Будешь себя так вести, получишь, – добавил Мишель Баринов. – Я, знаете, поддерживаю мнение Адольфа, подобным особам не место в нашем кругу. Ведь это то же самое, что посадить к нам девку с улицы, простите за выражение.
– Так оно и есть, Миш, балерина и девка с улицы – вещи, ничем друг от друга не отличающиеся, – вставил Лев Константинович, смакуя кусочек говядины, обмазанный сладким соусом. – В конце концов, она же для себя самое завела сие создание, вот только почему окружающие должны страдать от чьих-то прихотей – неясно.
– Действительно, почему другие должны страдать от чьих-то прихотей? – прорезалась Мари, с намеком поглядев на меня.
Прекращая слушать дальнейшие обсуждения, я вновь обратился взором на танцовщицу: «в отличие от той же мадам де Вьен, эта хорошенькая балерина ведет себя достойно. И платье у балерины, изготовленное по последней моде, не лишено скромности, и декольте не так глубоко… Но глядит на меня эта балерина не отрываясь! Даже в рот куска хлеба из-за нее взять не могу».
– …Так этот брат ейный, беспредельщик этот, даже генерала ножом порезал, представляете, Лев Константиныч? Неужели не знали? – тихо завел г-н Тригоцкий, когда Розенбах вышел из столовой с родителями и супругой. – Удивляюсь, как его до сих пор не осудили. Уверен, что Эдуард Войцыч порядочно подсуетился за голову подкидыша, какой-никакой, а родственничек все-таки.
– О ком вы, Андрей Георгиевич, простите? – вкрадываясь в разговор, полюбопытствовал я.
– Вы разве не знаете Адема Эрдем? – вопросил г-н Тригоцкий.
– Нет, не знаю, – солгал я, справляясь с мучительной болью каблука мадам де Вьен, ослабившую давление только после моего ответа. – Но история, что вы рассказывали, кажется, очень занимательна.
– Эта семья много шуму навела, в особенности из-за своего больного сынули, – начал повествование Андрей Георгиевич. – Написал я, значится, товарищу своему, генералу Е*, про дела да здоровье узнать, как говорится. Ну и спрашиваю у него, значится, как успехи на службе, выведываю новости, а он мне рассказал, мол, пришел к нему, значится, аж с московским поручением Мехмет Эрдем за сынулю просить, мол, он у меня глубоко образованный и порядочный молодой человек, знает то, се, пятое и десятое, и, значится, возьмите его на службу. Ну генерал Е* человек добрый, тем более армии всегда бойцы нужны, вот он и говорит, значится, приводите своего сынулю, посмотрим, что из него состряпать можно… вот и, что называется, привел молодца! – прервался князь Тригоцкий, жадно отпивая вино. – Так вот, значится, испытания наш молодец прошел успешно, зачислили его, значится, с большим авансом на службу – о, как похлопотал восточный папаша! Но не прошло и трех дней, как этот беспредельщик, он же брат нашей Вильгельмины, навел там смуту. Избил половину роты, значится, солдату какому-то палец откусил и, что называется, на закуску в плечо Е* нож воткнул.
– И что было потом?.. – округлив глаза, изумился мой отец. – Что сделали с молодым человеком?
– Что-что… принес беспредельщик этот свои глубочайшие и никому не нужные извинения, на том, значится, его и вышвырнули. Широких разбирательств не было, потому что, как написал мне Е*, испугались этого больного, что он их потом выследит и перережет, – договорил Андрей Георгиевич. – Думал, что его по-тихому отправили или в Сибирь, или того хуже – на Кавказ… Сами знаете, люди там дикие, места гиблые. А оказалось вона что: устроили его, значится, в допросную потрошителем. Держали его там два месяца, а потом – чу! – моему племяннику Алексею Петровичу подкинули на службу в прокуратуру. Ну, говорю, Алешка, вот тебе и сюрприз от государства, исправляй, значится, и доказывай, говорю, что можешь кого хошь перевоспитать получше отца-то твоего покойного, Петра Алексеича-то, земля ему пухом. И главное, из-за чего драка-то была, знаете, господа? А из-за того, значится, что подкидыша в роте турком обозвали! О как! Дожили! Все, значится, правда все глаза выколола!
Кинув на меня тревожный взгляд, отец закашлялся, это вынудило его ненадолго покинуть стол, а Керр, заметив, что мы с Эдмондом де Вьеном имеем какую-то явную связь с «подкидышем», вновь улыбнулся своей странной, жестокой улыбкой, которая еще прежде мне не понравилась. «Новость будоражащая, никак не ожидал услышать, что Адем вытворит подобное бесчинство… искалечить роту и генерала – немыслимо! Ладно на меня он накинулся за сестру, но на всех сослуживцев да на начальника!.. – проворачивал я в голове. – А улыбка Альберта, кстати, мне не приятна… она жесткая». Не хочу Адема ни обвинять, ни защищать, но замечу, что новость произвела на меня довольно сильный эффект, я был ошеломлен куда больше, чем от записки Тани, о которой, к слову, за весь вечер даже и не вспомнил.
Некоторое время погодя гости дружной змейкой разбрелись по залам, кто-то ушел в бильярд, кто-то изволил слушать музыку в мятной гостиной. Мария попросилась от меня в компанию своих бывших подруг, куда я ее передал с превеликой радостию, и отправился в картежный зал. Там не играл, но употребил голландскую сигару, остальные господа швырялись картами, а фон Верденштайн жаловался Морилье на некую особу. Речь Себастьяна была бессвязной и измученной.
– Nein, фы претстафлять?.. Фы!.. Nein! Зозо застафить! Претстафлять! Mein Gott, этот русский йазык! Она меня застафляла предстафлять! То есть не предстафлять, а зафязать! Окончательно предстафлять! Mein Gott! Зафязать окончательно! – недовольно стонал фон Верденштайн.
– Так и что? По-моему, ваша Зозо более чем права, – возразил Павел Шведов, скидывая карты. – Чрезмерное употребление опиума вредно для здоровья, а глюкоина так вообще… Баринов, ваш тигр сдох, или только с обезьяной не прошло?
– Какой тигр? – возник Державин.
– Что значит какой? Обычный тигр, Алекс, папка мне тигра в Рязань пригнал, чтоб я там не скучал. Эта тупая кошка через две недели мне уже так осточертела, что я начал на ней опыты ставить. Издох Кузя (тигр) уже через два дня. Подсадил ему микробов, которых выводил искусственно, а он взял и помер до противоядия.
– Вы противоядие сделали? Вот это да, правда же?! Вы гений! – подпрыгнув с места, зааплодировал Державин.
– Отстань ты, – махнул рукою Баринов. – Лучше вот что, господа, хотел вам предложить визит к Басицкому. Слышал, у г-на Басицкого должен случиться вечер, и мы всей нашей бывшей кукушкой, пока из нас никто не подох, как Кузя, вполне могли бы собраться вместе, отвлечься, так сказать, от насущных проблем, м-м? – ввернул Мишель. – Только вопрос… и вопрос-то к тебе, де Вьен, отсидеться в сторонке не получится с сигарой в зубах. Ты, вероятно, не намерен продолжать общение.
– Почему же не намерен? Признаю, что между нами уже не те отношения, что прежде, а посему совместное пребывание вместе может доставить атмосфере кукушки массу хлопот и довольно неприятный окрас. Но лично я навестил бы Басицкого.
– Вот и славно, на том и порешали без излишних разбирательств! – вставил Артур. – Мать все нервы мне вытрясла, Адольф, из-за ваших радужных фокусов. Следя за вами, все пытаюсь понять, как можно быть таким своенравным человеком, способным сотворять все, что только вздумается. Вас, скажу честно, на дух не переношу, но притом мечтаю быть вами.
– А чего ему бояться-то? Вон его как жись супружеская доконала, – тихо пошутил Мишель, но я отчетливо его услышал, впрочем, как и другие.
– Михаил Львович, вы опять? – вздохнул я.
– Что? Я молчал! – как бы удивившись, отреагировал Баринов, хлопнув Григория Германовича по затылку. – Грегори, скажи, я же молчал?
– Как могила, – солгал Хмельницкий.
– О, к слову о могилах, ты ходил к Бонифацие, де Вьен? – вопросил Мишель.
Но тут, врываясь в игральную комнату, состоящую из сигаретного дыма и тусклого мерцания свечей, вбежала напуганная балерина. Заперев дверь, танцовщица прижалась к ней спиною и, суетливо оглядывая комнату, старалась скрыть подступившее волнение и унять сбивчивое дыхание.
– Ах, a little bird was flying blithely, abruptly fell into the serpent lightly; he was much starving, and she knows, he wants her, how nobody loves (Порхала пташка столь беспечно, что пала вдруг в змеиное гнездо; голодным был властитель страсти, обвил страстно он ее). – важно прихрамывая к более освещенному участку комнаты, проговорил Миша с похотливым выражением лица. – Что же столь милая birdie (пташка) здесь, среди игр на деньги и дымке свеч, забыла?
– Я!.. Сейчас уйду! Немедленно уйду! Не думала, что вы здесь! Как-то заплутала и случайно сюда попала! – почти пропела танцовщица умоляющим голоском.
– And I thought you forgot your honor and pride here and came to look for, birdie (А я-то думал, ты потеряла гордость и честь, пришла поискать), – все ближе и ближе настигая балерину, прошептал Мишель, выпуская клубы дыма. – What do you think about this, gentlemen? What a cutie! (Что вы думаете, господа? Какая милашка!) Так и хочется поцеловать! Вы позволите?
– Остановитесь, Баринов, противно уже! – поднимаясь с места, вмешался я, выдвигаясь из тени. – Пользоваться невозможностью юной барышни ответить вам – низость.
– Да ладно, она же сама пришла! Или ты и из-за этой меня на дуэль вызовешь? – выгибая бровь, ответил Мишель. – Ну ладно-ладно-ладно! Как близкому другу прощу тебе подобный выпад, так уж и быть.
– Неужели-таки простите? А я уж устрашился остаться в немилости! – язвительно заметил я, протягивая руку напуганной балерине. – Прошу, пройдемте со мною, милая, отведу вас.
– Правильно говорить не «отведу», а «уведу», де Вьен! Доучи русский, чтобы называть вещи своими именами, – раскатисто рассмеялся Мишель. – Нет, вы слышали, господа? Он ее «отведет»… куда, интересно?
Не обращая внимания на последующие разговоры и смелые выпады в сторону воспитанницы г-жи П*, что велись на английском языке, я провел балерину через другой ход, ведущий в промежуточный зал с расписными китайскими вазами, чашечками и тарелочками. Танцовщица не начинала диалог, поэтому я решил заговорить первым.
– Князь Адольф де Вьен, – произнес я, выжидающе взглядывая на балерину. – Сегодня нам посчастливилось познакомиться заочно, помните?
– Александрия П*, – представилась танцовщица. – Да, вы были напротив меня.
– Вероятно, могу полюбопытствовать, как вы вдруг оказались в игральном зале? Заметил, вы были взволнованы. К слову, во мне вы можете не сомневаться, я вас не обижу.
– Знаю, вы не такой, как другие! Вы добры и благородны, – мгновенно переменившись в настроении, закокетничала Александрия. – Г-жа П* желала рекомендовать меня какому-то овдовевшему старику, чтобы потом, думается, выдать меня за него замуж. А я за старика замуж не собираюсь, слишком молода для ударов судьбы! Вот когда овдовею в тридцать с небольшим, тогда и разрешу какому-нибудь старикашке жениться на себе, а пока нет уж!
«Не думаю, что у тебя есть возможность выбора, birdie», – подумал я, после чего продолжил диалог: – Вы представились как П*, вас удочерили? Извините, что сую нос не в свое дело, но лучше расспрошу вас, чем услышу грязные сплетни от сомнительных источников вроде г-на Баринова, что давеча напугал вас излишним вниманием.
– Да, г-жа П* записала меня дочерью, все благодаря моей красоте! – поделилась birdie и, после долгого молчанья, продолжила: – Моих родителей не стало, когда я была совсем малышкой.
– Очень жаль. Понимаю, как никто другой, какое горе вам пришлось пережить. Моя мать покинула этот свет, когда я, как и вы, был еще ребенком… Слышите, кажется, музыка закончилась в мятном зале?
– Да, непривычно тихо! – зачем-то оглянувшись назад, заметила Александрия. – Спасибо вам, что увели меня оттуда! Хоть и не знаю английского, но, думается, тот г-н говорил что-то нехорошее… ой! – призналась birdie, отвлекаясь на полки с коллекционными вещами и картинами. – Какая забавная штучка! Что это, подвеска или сережка? Их здесь так много, поглядите! Вон та вещица, китайский дракончик, – самая красивая! Как все блестит и переливается!
– Вещь действительно уникальная, но это не подвеска и не сережка, а зубочистка начала XVI века, – рассказал я.
– Никогда бы не подумала, что эта вещица всего лишь зубочистка! Удивительные изделия! Ой, а там что?! – обращая внимание к двери, воскликнула танцовщица. – Даже боюсь подумать! А что это?
– Костюм для борьбы с медведем, – объяснил я, проследовав с birdie в кабинет древней истории. – Здесь рогатыня для охоты на, например, лося или оленя, внизу мечи и сабли. Эти фигурки – гири кистеней, а вот те – навершия булав. Лук и стрелы, думаю, вы различили и без меня. Когда-то все это принадлежало моему отцу, пока не случилось безрассудное дарение целого собрания.
– О! Вам не тяжело?
– В смысле? Не тяжело ли мне было расстаться с коллекцией? – спросил я, проследовав с Александрией через оранжерею во внутренний балкончик.
– Нет! Носить все это в своей голове! Вы такой умный! – простодушно ответила birdie и сразу как бы случайно уронила свой веер к моим ногам. – Как неловко, сегодня с утра этот веер не дает мне покоя!