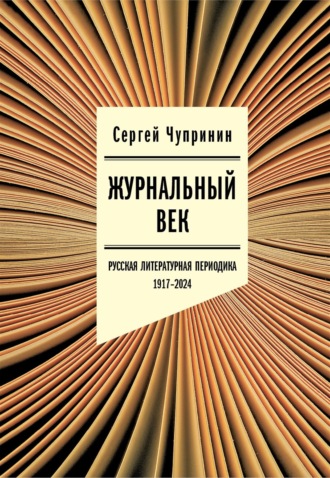
Полная версия
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024
Со стихами и стихотворцами Твардовский, впрочем, скоро разберется сообразно своему личному вкусу и эстетическим пристрастиям14. И если в ноябрьском номере за 1958 год еще появятся два стихотворения А. Вознесенского с выразительными названиями «Ленин» и «На открытие Куйбышевской ГЭС имени Ленина», то в публикации программного «Гойи»15 ему уже откажут, да и в дальнейшем ни Вознесенскому, ни другим «трюкачам» ходу на новомирские страницы при Твардовском уже не будет.
И только ли «трюкачам»? К. Паустовский, напечатавший при Симонове повесть «Беспокойная юность» (1955, № 6), предложил Твардовскому ее продолжение «Время больших ожиданий» – и получил от нового главного редактора резкое письмо, датированное 26 ноября 1958 года, где говорилось и о необходимости приблизить «бедный» – по его словам – автобиографический сюжет к реалиям «большого времени, больших народных судеб», и о сокращении, в частности, «апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем „божеством“, каким он был для литературного кружка одесситов»16.
Паустовский, разумеется, оскорбился, напечатал «Время больших ожиданий» у Ф. Панферова в журнале «Октябрь» (1959, № 3–5) и в частных беседах не раз с тех пор заявлял об «антиинтеллигентском» духе новомирской стратегии.
Придется признать, что известная правота в этих высказываниях, позднее повторенных В. Шаламовым17, была. Верный своим демократическим, по сути скорее даже народническим установкам, Твардовский не без предубеждения относился к произведениям, где действуют не простолюдины, а избалованные, как ему казалось, горожане с вузовскими дипломами, пусть даже и попавшие под жернова сталинских репрессий. Например, А. Берзер вспоминает, что к «Хранителю древностей» Ю. Домбровского он отнесся без большого энтузиазма, просил сместить акценты с частной истории частного человека в сторону истории народной. Роман однако же напечатал (1964, № 7–8), тогда как отклонил и «Софью Петровну» Л. Чуковской, и «Свежо предание…» И. Грековой, и – с особенным негодованием – «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.
Его, – рассказывает Б. Закс, – коробило то, что в этой героине так сильно сидит советская элитность, что она как бы чувствует себя противопоставленной всей другой арестантской среде, что как бы им так и надо, а меня за что?18
Конечно, и цензура вгрызалась в тексты, представленные редакцией, с особой свирепостью, поэтому ни «Синяя тетрадь» («Ленин в Разливе») Э. Казакевича, ни «Сшибка» («Новое назначение») А. Бека, ни «Исход» Ю. Трифонова, ни «Сто суток войны» К. Симонова, ни «Степан Сергеич» А. Азольского19, ни переводы романов «Чума» А. Камю или «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя новомирских страниц так и не достигли, либо появившись в других журналах, либо десятилетиями ожидая своего часа. О чем-то – о «Воспоминаниях» Н. Мандельштам, первой версии «Детей Арбата» А. Рыбакова, «Очерках по истории генетики» Ж. Медведева – разумеется, и помыслить было нельзя. Однако во многих случаях срабатывали и капризы редакторского вкуса Твардовского либо его ближайших помощников, не допуская, например, к печати стихи и «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Июль 1941 года» Г. Бакланова20, «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери, «Трудно быть богом» братьев Стругацких, «Чонкина» В. Войновича, «Зиму 53-го года» Ф. Горенштейна, рассказы Л. Петрушевской или «Затоваренную бочкотару» В. Аксенова.
Однажды, – вспоминает А. Гладилин, – мы пришли к Твардовскому втроем – Юра Казаков, Аксенов и я, – пришли, естественно, не с пустыми руками. Твардовский с ходу опубликовал два рассказа Аксенова – «На полпути к Луне» и «Завтраки 43-го года»21. Почему меня отбросил – это я прекрасно понимал, но почему он не взял рассказы Казакова, вот этого я не понимаю до сих пор22.
«Случай Казакова» действительно наиболее выразителен. Ведь Твардовский еще в отзыве 1958 года вроде бы признал, что «автор явно талантлив», что «он уже писатель», однако ни единой его строки в «Новом мире» так и не напечатал23, советуя браться «за дело посерьезнее, с чувством большей ответственности перед читателем, с ясным осознанием того, что в искусстве на одних „росах“, „дымах“ и т. п. далеко не уедешь»24.
Просчет великого редактора? Как знать, поскольку и единомышленники Твардовского были решительно того же мнения. Вот и А. Яшин, с восхищением читая казаковскую прозу, 26 февраля 1964 года записал в дневник, что все-таки «нет в его живописных рассказах ощущения эпохи, ее трагизма. Должно быть, он сознательно уходит от всего». Вот и А. Солженицын в ноябре 1967 года с сожалением вздохнул: «И какой же сильный и добротный был бы Юрий Казаков, если бы не прятался от главной правды»25.
Это и в самом деле понималось в годы Оттепели как ключевое, определяющее: «ощущение эпохи, ее трагизма», «главная правда». Поэтому «Новый мир» Твардовского вернее называть не антологией лучшего, что было в литературе 1950–1960-х годов, а журналом с направлением, не только политически, но и эстетически ориентированным на нормы социального обличительства, разгребания грязи и на традиции критического реализма XIX века.
Границы этого направления были широки, но они были. Скажем, монументальные и сугубо «интеллигентские» мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», публикация которых началась еще в 1960 году (№ 8–10), или «мовистские» повести В. Катаева «Святой колодец» (1966, № 5)26, «Трава забвения» (1967, № 3), «Кубик» (1969, № 2) помещались в них с трудом, и Твардовский, случалось, не скрывал своего редакторского неудовольствия27. Тогда как готов был горою стоять за «Большую руду» (1961, № 7) и «Три минуты молчания» (1969, № 7–9) Г. Владимова, «Тишину» Ю. Бондарева (1962, № 3–5)28, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина (1962, № 12), «Убиты под Москвой» (1963, № 2) К. Воробьева, «На Иртыше» (1964, № 2) и «Соленую падь» (1967, № 4–6) С. Залыгина, «Семерых в одном доме» В. Семина (1965, № 6), «Мертвым не больно» (1966, № 1–2), «Атаку с хода» (1968, № 5) и «Круглянский мост» (1969, № 3) В. Быкова, «Живой» («Из жизни Федора Кузькина») Б. Можаева (1966, № 7), «Созвездие Козлотура» Ф. Искандера (1966, № 8), «Две зимы и три лета» Ф. Абрамова (1968, № 1–3), «Плотницкие рассказы» (1968, № 7) и «Бухтины вологодские, завиральные» (1969, № 8) В. Белова, «Юность в Железнодольске» Н. Воронова (1968, № 11–12), наконец за «Обмен» Ю. Трифонова (1969, 12)…29
Впечатляющий, что и говорить, перечень, но как центральную для журнала фигуру Твардовский, едва прочтя анонимный рассказ «Щ-854», осознал Солженицына. Ждать, правда, пришлось целый год – с 10 ноября 1961-го, когда Р. Орлова передала рукопись редактору А. Берзер, а та Твардовскому, до 16 ноября 1962-го, когда этот рассказ, став повестью «Один день Ивана Денисовича», после личного одобрения Хрущевым наконец увидел свет.
О том, как в «Новом мире» печатались «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (1963, № 1), «Для пользы дела» (1963, № 7) и «Захар Калита» (1966, № 1), о том, как новомирцы во главе с главным редактором безуспешно сражались за публикацию «Ракового корпуса», и о том, как они вынуждены были отступиться от желания «пробить» роман «В круге первом», подробно рассказано в дневниках Твардовского, в солженицынских «очерках литературной жизни», в памфлете В. Лакшина «Солженицын, Твардовский и „Новый мир“», в воспоминаниях других участников этого легендарного сюжета. И остается лишь сказать, что упорство, проявленное редакцией, стало одним из главных триггеров в облаве на «Новый мир» и в его разгроме.
Причин, впрочем, и без того хватало. Лютость цензуры, агрессивное недоброжелательство партийного аппарата и писательского начальства раз за разом обрушивались не только на прозу новомирских авторов, но и на их статьи, вплоть до рецензий-коротышек. И небезосновательно – протест против бесчеловечного режима и казенной фальши надо было в прозе еще извлечь из художественной ткани, тогда как у критиков и публицистов этот протест проступал со всей наглядностью. Настолько шокирующей, что, например, программная статья И. Виноградова «Деревенские очерки В. Овечкина» (1964, № 6) напугала не только начальство, но и самого Овечкина, хотя, – вспоминает И. Виноградов, – там не было критики, обидной для него, но там было как бы обнажение его кардинального фундаментального противостояния всей нашей сельскохозяйственной политике. Очевидно, такая откровенность, такая прямолинейность ему показались опасными30.
А статья В. Кардина «Легенды и факты» (1966, № 2), где с точки зрения исторической истины были разоблачены самые красивые вымыслы коммунистической пропаганды – о залпе «Авроры» в октябре 1917-го и Дне Советской армии в феврале 1918-го, о подвиге Александра Матросова и 28 героев-панфиловцев, – стала, что беспрецедентно, предметом особого разбирательства на заседании Политбюро ЦК КПСС, и лично Брежнев раздраженно заметил:
Ведь договариваются же некоторые наши писатели (а их публикуют) до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел и т. д., что не было 28 панфиловцев, что их было меньше, чуть ли не выдуман этот факт, что не было Клочкова и не было его призыва, что «за нами Москва и отступать нам некуда»31.
Конечно, прорывы «умственных плотин» случались и в других журналах. Но только «Новый мир» вел атаку на идеологическую твердыню столь сосредоточенно, столь целенаправленно, что это выглядело, да и было системой, или, как тогда выражались, линией. При Хрущеве, у которого с Твардовским были личные отношения, это еще как-то сходило с рук. Но после «малой октябрьской революции» 1964 года режим посуровел и войну со строптивыми новомирцами развернул уже на уничтожение: бодания с цензурой приводят к тому, что очередные номера выходят с задержкой на несколько месяцев; журнальную стратегию поносят уже не только в печати, но и на партийных пленумах и съездах; в воинских частях и учебных заведениях распространяется директива ГлавПУРа об исключении «Нового мира» из бюджетной подписки32; из редколлегии в декабре 1966 года для острастки удаляют А. Дементьева, первого заместителя главного редактора, и Б. Закса, ответственного секретаря, а в 1968-м и самого Твардовского планируют заменить В. Кожевниковым…33
«Дела плохи, журнал как в блокаде», – еще 19 июня 1965 года записал в дневник Твардовский34. И – продолжал бороться теми возможностями, какие у него были: бомбардировал ЦК протестующими письмами, минимум дважды (в сентябре 1965-го и в марте 1966 года) подавал туда же заявления об отставке, просил Брежнева о личной встрече.
Но его больше не принимают. И унижают по-всякому: кандидатом в члены ЦК уже не избирают (1966), место депутата Верховного Совета РСФСР отдают «чутконосому», по солженицынскому выражению, А. Чаковскому (1967), в Герои Социалистического Труда, как других бесспорных классиков, не производят (1967), годом спустя прокатывают на выборах в Академию наук, и наконец из февральского номера за 1969 год цензура снимает стихи самого Твардовского, объединенные позднее в поэму «По праву памяти»35.
Это означает, что журнал становится все более беззащитным, враги Твардовского смелеют, и в мае 1969 года оргсекретарь правления СП СССР К. Воронков настоятельно рекомендует ему перейти из «Нового мира» на штатную работу в Союз писателей. Твардовский отказывается наотрез, и тогда из-под него выдергивают редколлегию: 9 февраля 1970 года В. Лакшин, А. Кондратович, И. Виноградов, И. Сац освобождены от обязанностей, которые, хуже того, переданы совсем уж чужакам, если не заклятым врагам Д. Большову, О. Смирнову, А. Рекемчуку и А. Овчаренко36.
Твардовскому оставалось только хлопнуть дверью37 в надежде, что за ним последуют и другие сотрудники и авторы «Нового мира». Однако добровольно из редакции вместе с ним ушел только Ю. Буртин, ведавший рецензиями в отделе публицистики38. Членов редколлегии М. Хитрова, А. Марьямова, Е. Дороша в порядке партийной дисциплины на несколько месяцев задержали на рабочих местах и уволили только после того, как А. Марьямов и Е. Дорош отказались появляться в редакции и получать зарплату. Что же до рядовых редакторов, то им податься было некуда, и грела к тому же надежда на «продолжение „миссии“», на то, что можно будет, – как язвительно заметил В. Лакшин, – «сохранить прежний журнал без Твардовского и с новой редколлегией»39.
Большого публичного скандала, в общем, не вышло. Да и авторы, поначалу убитые… или казалось, что убитые этой новостью…
Вот Ф. Абрамов.
Нет, мы еще не отдаем себе отчета в том, что произошло, – записывает он в дневник 15 февраля 1970 года. – Катастрофа! Землетрясение. Растоптана последняя духовная вышка… Нет, все не то.
А если бы провести референдум… 97 % наверняка одобрят закрытие «Нового мира». Вот что ужасно. Акция эта, по существу, – выражение воли народа. Вот и говори после этого, что у нас нет демократии.
Да, из литературы изгоняют Твардовского, первого нашего поэта, и вместо него ставят Косолапова, даже не члена СП. Значит, талант нам не нужен. Талант нам враждебен. Да и вообще нам не нужна литература. Нужна только видимость, суррогат40.
Оно так, конечно, однако и рассказ «Деревянные кони» (1970, № 11), и роман «Пути-перепутья» (1973, № 1–2) Абрамов принес все-таки в обновленный «Новый мир». Как и В. Быков: «Сотников» (1970, № 5), «Обелиск» (1972, № 1), «Волчья стая» (1974, № 7). Как и Ф. Искандер: рассказ «Богатый Портной и другие» (1970, № 6), главы из романа «Сандро из Чегема» (1973, № 8–11). Как и В. Некрасов: «В жизни и в письмах» (1970, № 6). Как и Ю. Трифонов: «Предварительные итоги» (1970, № 12), «Долгое прощание» (1971, № 8), «Нетерпение» (1973, № 3–5). Конечно, эти первоклассные публикации были теперь изрядно разбавлены романами О. Смирнова «Эшелон» (1971, № 2–3)41, А. Ананьева «Версты любви» (1971, № 8–11), пьесами С. Михалкова (1971, № 11) или А. Софронова (1972, № 9), что при Твардовском было бы немыслимо. Однако и В. Катаев, и В. Семин, и В. Шукшин, и Б. Можаев, и В. Тендряков, и практически все фирменные новомирские авторы с журналом остались. А раздел поэзии так и вовсе заиграл непривычными красками: после долгой эстетической опалы на эти страницы вернулся А. Вознесенский (1970, № 10; 1971, № 9; 1974, № 8), поэму «Казанский университет» напечатал Е. Евтушенко (1970, № 4), среди новых для журнала авторов появились О. Чухонцев (1970, № 6; 1971, № 6), И. Шкляревский (1971, № 5; 1972, № 6; 1974, № 7), Б. Ахмадулина (1972, № 5; 1974, № 6), Н. Матвеева (1973, № 3), совсем юная О. Николаева (1970, № 11).
Почему бы и нет? Во-первых, сменивший великого поэта литературный функционер В. Косолапов был, по характеристике А. Вознесенского, «человек номенклатурный, но глубоко порядочный». А во-вторых, как передавалось из уст в уста, и инструкции он получил будто бы соответствующие: «Нам не нужен второй „Октябрь“, нам нужен „Новый мир“, только без крайностей прежней редакции».
Без крайностей – это значит без обличительства, без жесткой полемики с коммуно-патриотическим «Октябрем» и коммуно-националистической «Молодой гвардией», то есть прежде всего без критики и публицистики в лакшинско-виноградовском духе. И не в том даже беда, что заметную долю журнальных страниц при В. Косолапове и его преемниках заняли чиновные В. Озеров, Ю. Барабаш, Л. Новиченко, А. Овчаренко, Ю. Кузьменко, Ф. Кузнецов, Л. Якименко, даже А. Дымшиц, ведь с редакцией продолжили сотрудничать и староновомирцы Ст. Рассадин, В. Кардин, Ю. Карякин, И. Соловьева, И. Борисова, Б. Сарнов, иные многие. Беда – или, возможно, новизна? – в том, что уже не цензорами, а редакторами из всех статей и рецензий беспощадно удалялись не только кукиши в кармане, но и вообще социальный нерв, стремление срастить эстетический анализ с публицистически значимыми выводами.
В отсутствие социальности ключевым понятием вынужденно стала художественность. В особенности после того, как Косолапова в 1974 году сменил поэт Сергей Наровчатов. Рассказывают, что его звали на это место еще в 1970 году, но тогда, блюдя приличия, он отказался42. А теперь согласился и…
Упор, – наставлял он Д. Тевекелян, приглашая ее на работу в редакцию, – стоит делать на качество литературы. На художественность. И главным в журнале должна стать не публицистика, а проза. И это будет отличать наш журнал от прошлого43.
Так что, действительно, журнал при Наровчатове стал максимально широк по эстетическому спектру: от романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого…» (1974, № 10–12) и «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина (1977, № 12; 1981, № 11) до «Круглых суток нон-стоп» (1976, № 8) и «Поисков жанра» (1978, № 1) В. Аксенова, от В. Катаева44, Ч. Айтматова45, Г. Бакланова46, Ю. Трифонова47 до цветаевской «Повести о Сонечке» (1979, № 12) и орловского «Альтиста Данилова» (1980, № 2–4).
Программа журнала? – сказал, по воспоминаниям Л. Левицкого, Наровчатов на банкете в день своего 60-летия. – Верность партийной программе в литературе. Это навсегда. Это последовательно. Это четко. Внутри этого – разнообразие стилей, почерков, талантов48.
Утратив нажитую А. Твардовским славу форпоста общественной мысли49 и не сумев «вернуть свой былой блеск и мощь подлинного властителя дум»50, «Новый мир» и в эти годы сохранил репутацию самого респектабельного советского литературного журнала. Вероятно, поэтому именно туда «фельдсвязью, в красном пакете, серия „К“ „Совершенно секретно“ из ЦК привезли трилогию Л. И. Брежнева»51 – «Малую землю» (1978. № 2), «Возрождение» (№ 5) и «Целину» (№ 11)52.
Что ж, noblesse oblige, как в таких случаях говорится. И этот перворазрядный статус сохранялся вплоть до смерти Наровчатова в 1981 году. Тут обеспокоился было 84-летний Катаев и 15 сентября того же года обратился к Суслову со смиренной просьбой:
У меня еще хватит энергии на года два посвятить себя редакционной работе по примеру того, как я некогда создавал «Юность». Если бы мне предложили быть главным редактором «Нового мира», я бы не отказался и отдал бы всю свою энергию для сохранения его авторитета и подготовил бы себе хорошего преемника. Я думаю, это было бы хорошо для журнала. Каково на этот счет Ваше мнение?53
Однако власти выбрали на эту роль бесцветного Героя Советского Союза Владимира Карпова, и жизнь журнала покатилась по инерции, заданной Косолаповым и Наровчатовым. Так что, конечно, Ф. Абрамов, Д. Гранин, В. Каверин, Ю. Нагибин там по-прежнему печатались, и А. Вознесенскому дали блеснуть хулиганским сочинением в прозе «О» (1982), а В. Маканину – художественно безупречной повестью «Где сходилось небо с холмами» (1984, № 1). Однако же шло все это на фоне безразмерных романов А. Ананьева и Ю. Бондарева, пьесы Г. Маркова, кампучийской хроники набиравшего силу А. Проханова, кондовой публицистики – поэтому какое уж там направление, скорее вселенская смазь, эклектика, как и в других предперестроечных ежемесячниках.
Но тут 1986 год. Последний по счету съезд советских писателей, где должность первого секретаря правления передали В. Карпову, а на освободившееся место главного редактора «Нового мира» вскоре пригласили Сергея Залыгина. Мало того что хорошего писателя, так еще и беспартийного, и это – как равным образом назначение Григория Бакланова в «Знамя» – становится событием, меняющим весь журнальный рельеф.
Разница лишь в том, что Бакланов взялся за революционные преобразования тотчас же: на роль своего первого заместителя позвал В. Лакшина и в первом же, какой подписал, номере напечатал «Новое назначение» А. Бека (1986, № 10), то есть заявил, что «Знамя» станет и продолжателем традиций Твардовского, и флагманом перестройки. Тогда как Залыгин вначале мешкал: редколлегию долго не менял, хотел вроде бы взять к себе первым заместителем И. Дедкова, но, столкнувшись с сопротивлением писательской бюрократии, от этого намерения быстро отступился54, и публикации, маркированные как перестроечные, на новомирских страницах появились, зато густо, только в 1987 году: «Зубр» Д. Гранина (№ 1–2), «Утрата» В. Маканина (№ 2), «Последняя пастораль» А. Адамовича (№ 3), «Человек в пейзаже» (№ 3) и «Пушкинский дом» (№ 8–12) А. Битова, «Смиренное кладбище» С. Каледина (№ 5), «Мореплаватель» О. Базунова (№ 6–7), «Степан Сергеич» А. Азольского (№ 7–9). Ну и конечно платоновский «Котлован» в одном июньском номере с прогремевшей статьей Н. Шмелева «Авансы и долги». Ну и конечно под занавес года первая в России развернутая публикация стихотворной подборки «Ниоткуда с любовью» недавнего нобелевского лауреата И. Бродского (№ 12)…55
Как знак перемен в редакционной политике было литературной общественностью расценено и приглашение О. Чухонцева на отдел поэзии, И. Виноградова на отдел прозы, А. Стреляного на отдел публицистики, чуть позднее И. Роднянской на отдел критики. Однако И. Виноградов и А. Стреляный продержались в «Новом мире» совсем недолго: в выходных данных февральского номера их фамилии обозначены впервые, а уже в ноябрьском исчезли.
О причинах еще будут спорить историки журнального дела. То ли сыграло свою роль несовпадение во взглядах осторожничавшего Залыгина, тяготевшего к консервативно-почвенническому вектору в литературной политике, и взглядах Стреляного и Виноградова, настроенных гораздо более радикально, – они, как рассказывает С. Яковлев, работавший тогда в редакции, – «торопили события, предлагали каждым очередным журналом „выстреливать“, делать его как последний». То ли дали о себе знать амбиции Виноградова и Стреляного, надеявшихся быть не всего лишь помощниками Залыгина в общем деле, но соредакторами «Нового мира».
В любом случае, как вспоминает Виноградов, – «очень быстро стало ясно, что Залыгин хочет из „Нового мира“ сделать такой академический „Наш современник“». Поэтому как только мы с Толей Стреляным поняли, что здесь идет сильный наклон в правую, такую русофильскую, «патриотическую» сторону (в кавычках), у нас вышел на одном из собраний довольно сильный конфликт по поводу того, как нам вести дела дальше, и какая структура управления должна быть. Мы предлагали несколько более демократический, что ли, так сказать, формат принятия решений по публикациям и так далее. Короче говоря, мы подали заявление вместе с Толей и ушли из «Нового мира», что было довольно скандально в то время56.
Для прояснения событийного ряда уместно привести еще и свидетельство С. Яковлева о том, как 17 сентября 1987 года Залыгин на редакционном сборе рассказывал, какие наставления дал в ЦК Лигачев главным редакторам, <…> советовал не трогать в печати 30–40-е годы – грядет юбилей Октября, к празднику готовится исчерпывающий политический доклад. <…>
– Перестройку нельзя занести в план, это дело не на год и не на пятилетку, – подытожил Залыгин (то ли от себя, то ли словами Лигачева). <…>
И тут выступил Стреляный (весь красный, на крепкой шее вздулись жилы). О важности демократической процедуры и необходимости введения таковой в «Новом мире». Творческие вопросы решать голосованием, главному редактору – два голоса. Оставить одного зама, уравнять зарплаты. Номера журнала выпускать всем членам редколлегии по очереди, чтобы была конкуренция. Выработать позицию! <…>
Виноградов поддержал Стреляного и добавил кое-что от себя.
Залыгин, судя по моим тогдашним записям, ответил так:
– Лавры журнального реформатора меня не прельщают. Мы – не кооператив. Если мне однажды не хватит моих двух голосов, вам на другой день придется искать нового главного редактора. У меня мало времени, чтобы экспериментировать: годик поработать так, потом этак… Я отвечаю за журнал перед Союзом писателей. <…>
На другой день они с Виноградовым подали заявления об уходе57.
А возвращения «Нового мира» к направленческим нормам, заповеданным Твардовским, не произошло. Конечно, в сражениях с командно-административной системой, в реформаторской риторике журнал Залыгина не отставал от других флагманов перестройки, и нельзя, листая подшивку за один только 1987 год, забыть темпераментные публикации В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра» (№ 2), Л. Попковой (Пияшевой) «Где пышнее пироги?» (№ 5) или уже упомянутую статью Н. Шмелева «Авансы и долги» (№ 6). Однако в разгоряченных спорах между либералами-западниками и национал-патриотами журнал попытался выбрать промежуточную и умиротворяющую, «центристскую» позицию. Держался ориентации на христианскую демократию и норм либерального консерватизма, ни в чем, по завету о. Сергия (Булгакова), не сливаясь «ни с красной, ни с белой сотней», так что скорая на правеж радикально перестроечная критика «Новый мир» даже назвала «Нашим современником» для интеллигенции. Сгоряча, хотя, возможно, небезосновательно – реагируя не столько на публикации «Доктора Живаго» (1988, № 1–4), «Факультета ненужных вещей» (1988, № 8–11) и «Архипелага ГУЛАГа» (1989, № 8–11), сколько на антилиберальную риторику Солженицына, на написанные здесь и сейчас беловские «Кануны» (1987, № 8) и «Год великого перелома» (1989, № 3; 1991, № 3–4), прочтенные как книги о навязанном инородцами геноциде крестьянства, и в особенности на статью И. Шафаревича «Две дороги – к одному обрыву» (1989, № 7), уравнивающую коммунизм с либерализмом.

