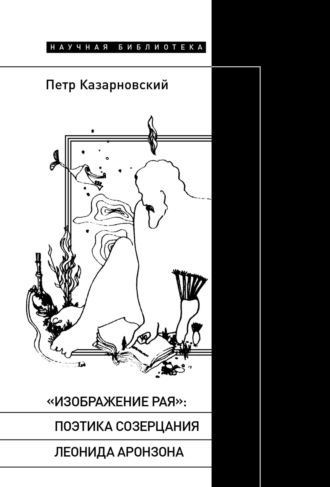
Полная версия
«Изображение рая»: поэтика созерцания Леонида Аронзона
Думается, принципиально расхождение двух позиций, одна из которых сосредоточена на отсылке к личности автора, другая – на «отражении» субъекта-личности в тексте. Первая возводит текстовую реальность в степень абсолюта, а центрального участника этой сверхреальности понимает как квинтэссенцию творческого импульса автора, постоянно преображающую реальную личность. Вторая склонна видеть в тексте сложные преломления авторского «я», силящиеся оторваться от «оригинала» – автора. Фигура аронзоновского автоперсонажа представляется находящейся посередине между этими инстанциями. Субъект автора отражается в тексте, но это отражение отсылает обратно – к субъекту автора. В этом условном взаимоотражении приоритет не должен принадлежать никому – ни лирическому герою, ни автору: образ первого максимально приближен к авторскому «я», тога как образ второго предельно эстетизирован, даже мифологизирован.
2.2. Об отношениях лирического героя и автора
Как видно из далеко не полного экскурса по исследованиям отечественных и зарубежных специалистов, проблема соотношения автора и лирического персонажа, а также многоуровневости, многослойности самого лирического «я» продолжает волновать ученых, так что порой кажется, будто высказанное Бахтиным в середине 1920-х годов актуально и по сей день:
В лирике автор наиболее формалистичен, т. е. творчески растворяется во внешней звучащей и внутренней живописно-скульптурной и ритмической форме, отсюда кажется, что его нет, что он сливается с героем или, наоборот, нет героя, а только автор. На самом же деле и здесь герой и автор противостоят друг другу и в каждом слове звучит реакция на реакцию [Бахтин 2003: 77].
Именно растворенность Аронзона-автора в видениях своего персонажа – alter ego, для чего привлекается широкий арсенал выразительных средств, и создает иллюзию тождества автора и героя и не всегда способствует узнаванию именно «реакции на реакцию», а не просто реакции как таковой. Парадокс лирического героя заключается в том, что он совмещает в себе несовместимое: он и герой, изображенный субъект, не совпадающий с автором, и «постулируемый в жизни двойник» автора (Л. Гинзбург), «самого поэта» (Б. Корман).
В уже цитированной ранней работе М. Бахтин, исходя из истории развития лирики, утверждает, что в ней «целое героя не являлось основным художественным заданием, не являлось ценностным центром художественного видения» [Бахтин 2003: 233–234]. Будучи «только носителем переживания», «не закрывающего и не завершающего его», герой лирики выступает только «центром видения». Бахтин основывает свои наблюдения на том, что ему дает поэзия Пушкина, главным образом – стихотворение «Для берегов отчизны дальной…», где широкий мир мыслится общим для всех инстанций текста – автора и героя, недаром в том же месте работы читаем: «Важен и героя и автора равно объемлющий мир, его моменты и положения в нем» [Там же]. Но можно ли применительно к Аронзону говорить, что и его героя, и самого автора объемлет, окружает один и тот же мир? Автор создает для своего персонажа пространство, сам оставаясь внеположным этому пространству и сохраняя это пространство для себя умозрительным; а помещен в него (авто)персонаж как персонифицированный орган зрения.
Поэтому термин «лирический герой» не всегда оказывается достаточно адекватным для описания лирического субъекта – персонажа Аронзона. При всей традиционности (по крайней мере внешней) лирического «я» в поэзии Аронзона, его «лирическому взгляду» свойственно преображать невидимое в видимое – совершать открытие того, чего не может быть. Если лирическое «я» у Аронзона традиционно, то инстанция автора в отношении его персонажа трансформирована.
Лирическая личность, по мысли Гинзбург, существует как форма «авторского сознания, в которой преломляются темы <..>, но не существует в качестве самостоятельной темы» [Гинзбург 1997: 150] – такова личность в поэзии Фета, тут она выступает как «призма авторского сознания» [Там же], сквозь которую преломляются немногие темы. Помимо воспевания красоты, у поэзии Аронзона есть существенное сходство с фетовской: «для понимания лирического субъекта поэзии Фета термин лирический герой является просто лишним; он ничего не прибавляет, не объясняет» [Там же: 149–150]; но у Аронзона, оставаясь органом преломления впечатлений, образ персонажа не только не оказывается постоянной темой поэзии, но и растворяется в видимом, трансцендирует в него. Не сам лирический субъект выступает темой поэзии Аронзона: главная тема, как уже говорилось, – тема рая, неисчерпаемая и превращающая в неисчерпаемое смотрящего на рай. Именно в этой взаимосвязи смотрящего и предстоящего ему пространства, причем внутреннего для автора, и проявляется композит «автоперсонаж».
Основываясь на очень точном замечании Л. Гинзбург, что «говорить о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она <лирика. – П. К.> облекается устойчивыми чертами – биографическими, сюжетными» [Там же: 146], можно возразить, что это вполне относится и к лирическому субъекту Аронзона: ведь, действительно, он ограничен весьма небольшим количеством действий, им совершаемым: «Я созерцал, я зрил и только» (1964, № 8), – сказано довольно рано, но относится ко всему творчеству. Это обстоятельство едва ли может быть отнесено к биографии Аронзона: оно находится в сфере желаемого, осуществимого лишь в творчестве. Названное действие – созерцание – совершает именно та ипостась «я», которая хоть и свободна от жизни автора, но не может себя проявить без его сосредоточенности: ведь текстовое «я», когда мы подразумеваем в нем и авторскую инстанцию, – это, так сказать, «внутренний человек» Аронзона, сама сущность личности, «ядро души» (выражение Бахтина).
Как замечала Л. Гинзбург, художественной системой поэта может быть создана лирическая личность, воспринимая которую читатель «одновременно постулировал в самой жизни бытие ее двойника»:
Этот лирический двойник, эта живая личность поэта отнюдь не является эмпирической, биографической личностью, взятой во всей противоречивой полноте и хаотичности своих проявлений. Нет, реальная личность является в то же время «идеальной» личностью, идеальным содержанием, отвлеченным от пестрого и смутного многообразия житейского опыта [Гинзбург 1997: 151].
Гинзбург, а за нею Корман склонны были видеть в фигуре лирического героя объект, что можно объяснить наследием психологической лирики XIX – начала XX века: центральное лицо произведения выступает предметом авторского изучения.
Так, Корман предложил видеть в лирическом герое и субъекта, и объекта в прямо-оценочной точке зрения. Л<ирический> Г<ерой> – это и носитель сознания, и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и изображаемым миром [Корман 1992 г: 179].
Заметим, что никакой прямой оценки у Аронзона нет, и сомнительно видеть в фигуре его лирического «я» стоящего «между читателем и изображаемым миром». Персонаж Аронзона балансирует между внесубъектной формой авторского сознания, характерной для повествования или описания (пейзажа), и устремленностью в собственное ви́дение, всегда лирическое, субъективное и, в определенном смысле, недосягаемое для читателя – как сферу, в которую никто, кроме самого (авто)персонажа, попасть не может.
Первоначально работа имела задачей исследовать поэтическую идентификацию, осуществляемую Аронзоном, но в процессе постижения устройства мира поэта замысел был уточнен, конкретизирован, в известном смысле – сужен. Внимание переместилось с того, каким представлен и предстает лирический персонаж, на осмысление того, что он, будучи дистанцирован от автора, оказывается как бы самостоятельной фигурой, преобладающим занятием которой является созерцание. Этот мотив сопровождает всю поэзию Аронзона, недаром в начале 1968 года он создает «начало поэмы» «Видение Аронзона» (№ 85), словно выдвигая себя самого на роль визионера. Здесь важно не только использование приема сфрагиды, который у Аронзона встречается не раз, но и обнаружение образа «ясновидца, т. е. лица, при посредстве коего содержание видения становится известным читателю» [Ярхо 1989: 21]. Созерцатель у Аронзона типологически приближается к роли такого ясновидца, о котором говорит Б. Ярхо: «он становится частью самого видения» [Там же: 28]. Кроме того, Аронзон-автор демонстративно отождествляет себя с alter ego, усложняя ситуацию посредничества. Наконец, перед Аронзоном-поэтом вовсе не стоит задача «поучать» (именно к дидактическим жанрам и относят средневековые видения). В «Видении Аронзона» он создает поэтически-условную ситуацию, ключевыми моментами которой являются выход из комнаты, отмеченной присутствием в ней прекрасной жены («дом изумительной роскоши» присутствует в «Видениях из диалогов Григория Великого» и означает, так же как и сад, «исконный элемент в описаниях рая» [Там же: 44, 54]), в освещенную луной зимнюю ночь и восхождение на пустынный заснеженный холм, что, конечно, можно интерпретировать почти в соответствии с тем, как происходило развертывание видений ясновидцев в Средние века: сопровождаемый мыслями о смерти, персонаж стихотворения «с трепетом и сокрушением» [Там же: 28] прикасается к миру мертвых, чтобы поставить поминальную свечу. Здесь в чувственных образах (формах) заложено духовное содержание («материал»), что также вполне созвучно средневековым видениям-откровениям. В рассматриваемом стихотворении названные действия совершаются исключительно Аронзоном-созерцателем – автоперсонажем, особой модификацией лирического героя, которому дано, согласно авторской интенции, видеть и быть видимым, выступать и как субъект созерцания, и как объект созерцания одновременно. И здесь непросто определить, сколь велика (или мала) дистанция между этим персонажем и тем, кто биографически носил фамилию Аронзон.
Как уже отмечалось, вопрос дифференциации эмпирического автора и образа, который возникает в его лирике, не может считаться решенным, и поэзия последних ста с лишним лет предлагает читателю самые изощренные формы «нераздельности – неслиянности» автора и лирического героя. Говоря о развитии лирики по особому, в отличие от эпоса и драмы, пути и о близости автора и героя в ней, С. Бройтман объясняет это отказом от объективации героя, вследствие чего лирика не выработала четких субъектно-объектных отношений между автором и героем, но сохранила между ними отношения субъектно-субъектные [Бройтман 1999: 142].
Может показаться, что Аронзон представил своего героя неотличимым от себя, и это во многом справедливо вследствие «автопсихологичности» [Хализев 1999: 136] лирики вообще. Однако, полностью отождествляя поэта и «я» в его стихах, мы неминуемо лишаем этот мир его диалогичности, которая осуществляется не только на вербальном уровне. Наверное, можно говорить, что такую ошибку совершали некоторые представители «второй» культуры Ленинграда, писавшие о поэзии Аронзона; отчасти эта ошибка объясняется тем, что они строили свою культурную (и культурологическую) модель, включающую и поведенческий аспект, который находили и в стихах Аронзона.
Если мы составим перечень действий, которые субъект лирики Аронзона совершает, то их будет очень ограниченное количество. Его жизнь проходит преимущественно в созерцании, и задача поэта – поставить читателя в исходную точку этого взгляда, чтобы читатель увидел то же самое, но не отождествил себя с этим персонажем; последний остается уникальным, единственным, одним. Анна Вежбицкая указывала, что «обязательным участником ситуации 'X видит Y' является Место: вижу – обязательно „Где?“; а тогда и „Откуда?“»[81]. Несмотря на звучащий у Аронзона (его автоперсонажа) вопрос: «Здесь ли я?» (№ 134) – место в пространстве обращенности к другому или автокоммуникативности очень важно для него, и предполагается, что он видит, способен видеть себя.
Аронзон-автор сосредоточен на зрении своего героя, и для сохранения характера этого ритуализированного процесса необходима неподвижность этого лирического лица: созерцателю, наблюдателю до́лжно оставаться статичным. Этой статикой знаменуется стабильность – аналог «вечности» (кстати, это коррелирует и с постепенным отказом поэта от экспрессивности, ярких, броских поэтизмов). Статика-стабильность отражена в метрико-ритмической организации стихотворных текстов, в которых преобладает однородность. Метрическая изоморфность у Аронзона не отменяет диалогичности текста и характерного для диалога переключения из одного «геройного» плана в другой. Гомогенность формы на уровне метра и ритма не столько уравнивает говорящие инстанции, сколько заключает их в «раму» общего для всех ритма, обретающего определенный смысл – семантизирующегося. Как автоперсонаж всматривается в ночные окна «лица единого для тел» (1965, № 35), так и стихотворный метр (и ритм) приноровлен к тому, чтобы не отвлекать от воплощения в слове единого, цельного мира, предстающего глазам созерцателя[82]. Сам же созерцатель, как автор (по Бахтину), «творчески растворяется» в видимом, перекодируя свое «я» в «другого» или вовсе размывая его в «анонимности», отчего снижается «эгоцентричность» лирики – «самой эгоцентрической деятельности в мире» [Руднев 2003: 580].
Своему автоперсонажу Аронзон передоверяет те мысли, которые этот alter ego поэта в основном только видит в зримых образах. В отличие от известных в классической поэзии случаев, представленных в мирах, например, Лермонтова или Блока, где лирический герой сохраняет преимущественно сущностные компоненты своего автора, Аронзон-поэт всегда до неразличимости близок к своему персонажу и разделяет с ним имя, но, вопреки обыденной логике, не принадлежит физическому миру, находясь в каком-то пороговом состоянии сознания. Однако эта лиминальность представлена настолько достоверно, что этот представляемый мир становится буквально ощутим. Автоперсонаж Аронзона, получив возможность переживать свою смерть как длящееся состояние, объемлет тот предел, на который удостаивается посмотреть с обеих сторон. Так увеличивается присутствие вечности в ограниченной, обреченной концу жизни.
Поэзия Аронзона в высшей степени мистична. Поэт преображает засмертное существование, пребывание своего автоперсонажа в ином мире. Преображенная смерть у Аронзона связана с Ничто, пустотой, областью творящего молчания. Идея и образ пустоты очень важны для Аронзона, он понимает их позитивно и как предварение множественности, и как ее предотвращение. Словно по мысли Николая Кузанского: «В едином боге все свернуто, поскольку всё в нем; и он развертывает все, поскольку он во всем» [Николай Кузанский 1979: 104], Аронзон поэтически воплощает движение к свернутости, сжатости, компрессии до точки Ничто. И смерть становится пространственным и временным вместилищем со своими горизонтами, со своей необъятностью, очень напоминающими «этот мир». «Здешнее», посюстороннее существование, нередко наблюдаемое «оттуда», окрашивается в макабрические тона, вызывающие то смех, то тревогу и страх. «Здесь» и «везде» (или «здесь» и «там»), «мгновенье» и «вечность» – эти полюса уподобляются друг другу, утрачивают различия, путаются, отчего и появляются двойники, и категория «ничто» оказывается приложима едва ли не к любому наличествующему. Так, пространственные подобия у Аронзона становятся подобиями темпоральными, как будто поэт странно реализует утверждение Э. А. По: «Пространство и Длительность суть одно» («Эврика», 1848). Потому в рисованном полуабстрактном портрете, создаваемом рукой, которая в свою очередь создается другой рукой (на манер Эшера), – своего рода мета(авто)портрете – идея подобия – тождества дана в динамике, в развернутом виде. И возникает вопрос: можно ли здесь говорить о становлении в привычном смысле этого слова? Ведь если оно и совершается, то в границах вполне определенной заданности: всякая рука почти невольно воспроизводит то, что уже есть, совсем по словам одного из стихотворений: «Всё, что мы трудом творим, / было создано до нас» (1967, № 78). Таков же и автоперсонаж Аронзона – он есть и создается, обнаруживается каждый раз для возникающей ситуации созерцания, что не исключает определенной автоматичности.

Иллюстрация 2
При этом автоперсонаж подобен Гамлету, монологи которого натыкаются на тишину, пока он сам не отдаст себе отчета, что «дальнейшее – молчание», только «дальнейшее» здесь почти исключено, так как оно уже произошло, уже наступило. В автоперсонаже Аронзон изображает себя мертвым – то есть таким, для которого времени уже нет. Разумеется, это изображение засмертного дается в тенденции, в пределе и получает разные модусы пребывания в этом состоянии. Но так или иначе, все эти модусы конечной своей целью имеют положение божественного – недостижимое и невозможное.
Засмертное состояние автоперсонажа, когда сознание внушается еще присутствующему во времени, дает ему ви́дение неразличимости в окутывающем его безмолвии: безмолвны и Бог, и смерть. «…всюду так же, как в душе: / еще не август, но уже» (1970, № 144), – так говорится о «содержании» души: «еще не, но уже» – неухватываемый, невозможный момент. Здесь можно говорить, что понимание времени Аронзоном близко к тому, как понимал время Блаженный Августин: есть только настоящее, а прошлого и будущего нет, они могут быть видны и узнаны только через настоящее, тогда как само настоящее не имеет продолжения и потому не длится. О настоящем можно сказать, что оно настолько же есть, насколько его еще или уже нет.
Как же мы говорим, – размышляет Августин в «Исповеди», – что оно (настоящее) есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибаемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? [Августин 1991: 292]
Для Аронзона очень свойственна такая «вечная повторяемость этого процесса»[83] – процесса переживания бездлительного настоящего, где и сконцентрирован максимум бытия, становящийся всем – вездесущностью и вненаходимостью, повторениями и циклическими возвращениями «я». Это и есть «содержание» души – «содержание», которое заключено и которое заключает в себе. То же совершается и с молчанием: оно обрамлено и оно обрамляет. Царящее молчание если не отменяет пространство вовсе, то способствует его сжатию, в результате чего возникает двойник – в большей или меньшей мере обладатель души, нежели «оригинал»; одновременно двойничество у Аронзона утверждает уникальность оригинала.
Наконец, поэтический мир Аронзона предполагает отсутствие говорящего (как было замечено, «появление возникает только в форме собственного исчезновения» [Янкелевич 1999: 187]), его непринадлежность к миру живых. Это делает проблематичной интерпретацию концепции смерти у Аронзона в ключе мифо- или даже жизнетворчества: можно было бы, конечно, представить ее средством, благодаря которому преодолеваются жизненные помехи ради обретения радости в загробной жизни. Однако такой подход представляется слишком внешним, особенно если учитывать, что поэт преодолевал процесс неминуемой объективации образов своей поэзии построением особой логики и грамматики своего поэтического языка, уводящей от одноплановых толкований. Все творческое наследие Аронзона указывает на метафизические, эсхатологические глубины, интересовавшие и привлекавшие поэта, уводит читателя от злобы дня к надмирности и бессобытийности в определенном смысле этого слова.
2.3. Автоперсонаж: понимание термина
Автоперсонаж Аронзона – это молчаливая, созерцающая и созерцательная ипостась лирического героя как многосубъектного целого. В суммарном виде – в объеме всего корпуса текстов – автоперсонаж Аронзона в своей подчеркиваемой субъектности если не заключает в себе внеличностное (межличностное) сознание, то зримо – позой или жестом – обращается к нему. Возможность видеть его глазами предоставлена читателю Аронзоном-автором, облекающим видения автоперсонажа в слово.
Термин «автоперсонаж» применительно к творчеству Аронзона в том аспекте, как оно рассматривается в этой работе, представляется уместнее, чем «лирический герой», еще и потому, что содержит в составе слова два корня, первый из которых указывает на принадлежность исключительно к внетекстовой личности автора (как отражение облика художника в автопортрете) и на его направленность на самого себя; второй же корень указывает на объективность того лица, которое находится в условном пространстве рая, им созерцаемом. Как, по мысли Тынянова, «Блок – самая большая лирическая тема Блока» [Тынянов 1977: 118], так самая большая лирическая тема Аронзона – рай. Конечно, нельзя утверждать, что лирический субъект у Аронзона имеет только служебную функцию, но его первичная роль – созерцать, видеть. В поэтическом мире Аронзона для того, чтобы созерцать, нужен созерцатель – он обусловлен видимым, и без него видимого нет. В этом и заложена принципиальная особенность автоперсонажа как типа лирического героя, отодвинутого с центрального места, – взаимообусловленность созерцателя и «объекта» его созерцания: без одного нет другого. Созерцатель, будучи «фиктивной» фигурой, все же не делает фиктивным видимое; более того, с его возможным (а часто и желаемым) исчезновением видимое должно проступить отчетливее. Так можно сформулировать главную апорию, лежащую в основе поэтической оптики Аронзона.
Кроме того, обозначенная двусоставность лирического субъекта Аронзона (auto как указание на направленность на самого себя и persona как «маска», «принятая роль» или «действующее лицо» [Вестстейн 2009: 33]) сюжетно проявляется еще и в том, что «я» этого субъекта свидетельствует о его присутствии в текстовой действительности, тогда как для автора это иногда вряд ли возможно.
Так, например, кто сообщает о своих полетах в рай, как это делается в стихотворении «На стене полно теней…» (1969, № 127): «…я летал в него (в рай) во сне»? Если это передача сновидческого опыта, то лирический субъект Аронзона ничем не отличается от других «лирических героев», в пределе отделяющихся от своего автора и живущих самостоятельной жизнью. Говорящий «я» здесь объединяет в этом местоимении близкого автору героя (если не самого автора) и того, с кем автор не может быть сближен или отождествлен; здесь под «я» скрывается и субъект созерцания, и объект изображения – не «заочно допущенный», не во сне летавший в рай и проснувшийся «среди ночи». Но о нем автор может сказать только: «заочно» – иначе это будет выдумка, фантазия, плод воображения.
Не будь летавшего в рай, «я» не смогло бы поделиться этим опытом; не будь способного этот опыт объективировать в словах, полета в рай не произошло бы, пусть и заочного. Для автоперсонажа Аронзона характерна ситуация смотрения в зеркало и невозможности отличить, где оригинал, а где отражение, «двойник». Но значительнее то, что если персонаж настолько полон ощущением красоты, что не может об этом говорить, то автор как создает такую ситуацию для персонажа, так и говорит за него, выстраивая наиболее адекватную видимому форму поэтического высказывания.
Заметим еще одну важную особенность: находящийся в замкнутых пределах жилья персонаж ближе к автору, тогда как оказавшийся в открытом пространстве, он более удален от автора, может быть – в силу широкой перспективы. Здесь уместно привести наблюдения В. Вацуро об элегическом герое начала XIX века. Противопоставляя такового герою романному (готического романа), для которого «„замок – средоточие посмертной жизни“, сверхъестественного» [Вацуро 1994: 59], исследователь обнаруживает в первом, предающемся созерцанию и размышлениям, «требование открытого пространства» [Там же: 57], где только и возможна медитация: «…элегия – не действие, а медитация» [Там же: 59]. Автоперсонажу Аронзона так же противопоказано действие, как и элегическому герою «золотого века» русской поэзии.
В той же степени ему свойствен порыв к тому, чтобы быть объятым пространством, стремящимся к бесконечности, неохватности, что особенно заметно в таких стихотворениях, как «Была за окнами весна…» (№ 62) и уже упоминавшееся «Видение Аронзона» (№ 85). Сад в сознании Аронзона, несмотря на ограниченность, также обладает безмерностью (ср.: «И в этой утренней дали, / как некий чудный сад, / уже маячили земли / хребты и небеса»; 1969 или 1970, № 138). И автоперсонаж хочет наблюдать со стороны это воплощение необъятности; иначе, если он в это пространство будет вовлечен, он не сможет наблюдать, он почти вынужден будет действовать.
Процитированный выше фрагмент стихотворения «Душа не занимает места…»: «С участием Ален Делона / пойдет кино про Аронзона» – имеет продолжение: «…где будут все его друзья / (которым так обязан я)». Если первые три строки произносит автоперсонаж, дистанцированный от автора, то последняя часть высказывания, графически отделенная от основного скобками, наподобие ремарки, произносима автором[84]. Можно ли применительно к этому случаю говорить об «<образе> субъект<а> автора в текстовом отражении» [Шталь 2009: 8]? Скорее, здесь представлен диалог, в разворачивании которого автор позволяет себе поправлять своего мысленного собеседника.



