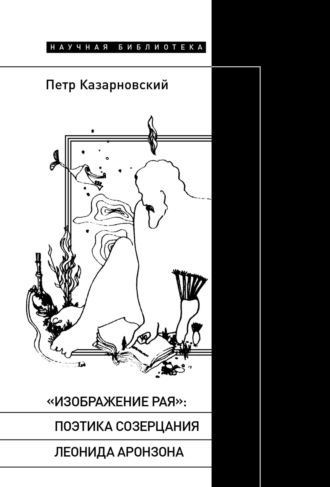
Полная версия
«Изображение рая»: поэтика созерцания Леонида Аронзона
В статье «Трансформация субъектности» (2018) поэт и теоретик поэтического авангарда Сергей Бирюков цитирует труд хорватского филолога Йосипа Ужаревича, который, развивая мысль о «лирическом парадоксе», утверждает, что лирическое Я в тематическом и структурном смысле также является объектом лирики (а не только и не столько «субъектом»), как и все многообразные его состояния[85].
Стоящий посреди неопределенного (и даже неопределимого) пространства и обращенный в своих видениях к другу, возлюбленной или Богу, лирический субъект Аронзона оказывается объектом собственной медитации. Свойственная поэту медитативность, предполагающая автокоммуникацию с характерными для нее трансформацией, переформулировкой и возрастанием информации[86], использует принцип повтора (секвентности), не боящегося даже штампа как аналога «стабильности», «вечности». Ю. Лотман так объяснял акт автокоммуникации, очень важный для культуры вообще:
Когда мы говорим о передаче сообщения по системе «Я – Я», мы имеем в виду в первую очередь не те случаи, когда текст выполняет мнемоническую функцию. Здесь воспринимающее второе «Я» функционально приравнивается к третьему лицу. Различие сводится к тому, что в системе «Я – ОН» информация перемещается в пространстве, а в системе «Я – Я» – во времени [Лотман 1992: 76–77][87].
Факт, что «сообщение, передаваемое в системе „Я – Я“, <..> приобретает какую-то дополнительную новую информацию», ученый объясняет качественной трансформацией в канале «Я – Я», приводящей «к перестройке самого этого „Я“» [Лотман 1992: 77][88]. Этот тип общения и обращения очень созвучен модели микромира Аронзона, лирический герой которого автокоммуникативен (отсюда и одна из мотивировок термина «автоперсонаж»), что сказывается на его высокой духовной активности и в то же время на сниженной динамичности в плане социальном[89].
Если медитативной лирике в целом свойственно преобладание «автокоммуникативности», снижение коммуникативной направленности[90], то в нашем случае это не вполне так: напряженная медитация лирического субъекта у Аронзона, кажется, способствует диалогичности, а не притупляет ее, не мешает ей; погруженность в себя как будто способствует более глубокому обнаружению адресата, места его созерцания и обращения к нему автоперсонажа. Как будет показано ниже, автоперсонаж Аронзона пребывает в ситуации окруженности кем-то или чем-то, что не мешает ему смотреть на себя со стороны, извне, но сама образующаяся замкнутость на самом себе (проявляющаяся, в том числе, на уровне многократных повторов в рамках одного текста, автоцитат в объеме всего творчества, «перечитывания себя», цитирования любимых текстов, наряду с музыкальными: «партита номер шесть», № 170, т. I, с. 237), создает особый модус автокоммуникативности. Здесь сохраняется индивидуальность не только поэтического стиля Аронзона, но и его лирического «я» – субъекта высказывания, в процессе созерцания превращающегося в объект, отчего происходит углубление как самой «личности» созерцателя, так и созерцаемого им адресата, будь то другое лицо или целый мир (жизнь). Почти без оговорок Аронзона можно отнести к той группе поэтов, о лирических «я» которых говорит В. Новиков (Г. Айги, В. Кривулин, Е. Шварц, А. Парщиков, А. Драгомощенко):
Данные поэты тяготеют к тому, чтобы репрезентировать не социальную группу («мы»), но мироздание в целом. «Лирический герой» говорит не от имени многих читателей – он выступает посредником между читателем и миром [Новиков 2018: 73–74].
Однако и «потенциальная обобщенность, „интегрированность“» [Там же: 73] лирических «я» названных исследователем поэтов выражается иначе, нежели у Аронзона: его лирическое «я» осциллирует между сугубо индивидуальным и общим ближайшего окружения, участники которого становятся полноправными персонажами его творческого мира; в этих колебаниях лирическое «я» доходит до неразличимости и одновременно парадоксального стирания личностного. В этом отношении Аронзону оказываются очень созвучны слова А. Рембо, сознательно дерзнувшего «исследовать незримое»:
On devrait dire: On me pense. Pardon du jeu de mots. JE est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait![91]
«Поэт не столько мыслит сам по себе, сколько <..> „его мыслят“ или „им мыслят“», – комментирует этот знаменитый пассаж Н. Балашов, и это созвучно поэтическому миру Аронзона, центральный персонаж которого оказывается медиумически неволен в своих виде́ниях: несмотря на преобладание в поэзии Аронзона активного залога, указывающего на наличие грамматико-синтаксического субъекта, сам этот субъект поставлен в речевую ситуацию подчиненности чему-то большему, что реализуется как косвенными падежами личного местоимения «я» (яркий пример – первая строка сонета «Лебедь», 1966, № 38: «Вокруг меня сидела дева»), так и поставленностью субъекта в пассивную, страдательную позицию (см. устойчивый для всего творчества Аронзона мотив «гонимого», как, например, в 1-й главе неоконченной поэмы «Качели», 1967, № 279, т. 2, с. 62; или мотив «объятости» лирического субъекта чем-то).
Было бы неоправданно и даже рискованно применять «теорию ясновидения» Рембо к Аронзону. Тем не менее приведенные интуиции французского поэта важны, потому что благодаря им можно провести ту невидимую черту, которая проходит между автором и его героем: изображенный самостоятельным в своем внутреннем движении, автоперсонаж Аронзона несет на себе след авторского присутствия, авторской воли, отчего при его представлении возникает впечатление объемности, стереоскопичности того совмещения, в котором, как говорилось выше, внешнее и внутреннее образа сходятся почти на равных правах, никогда не совпадая. В большой степени стихотворение «Послание в лечебницу» (№ 6) носит на себе черты автокоммуникации: призыв к неназываемому адресату (к душе?): «В пасмурном парке рисуй мое имя» (т. 1, с. 63), переходит в размеренное совершение акта письма-рисования: «ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь» (с. 65), создающего ландшафт парка. Так иероглифический почерк предшествует возникновению ландшафта с ручьем и продолжает этот ландшафт, чем создается своеобразный автопортрет-автограф, но не застывший, а движущийся вместе с ручьем и письмом.
Таким образом, автоперсонаж – это лирический герой, переставший быть темой стихотворения, как бы уступивший первый и главный план тому, что вне его, и тому, в чем он не может быть, – недосягаемому, которое он не мог бы видеть, находись он в нем. Но особенность зрения автоперсонажа-созерцателя и в том, что ему тем явственнее предстает внутреннее, чем ощутимее, очевиднее его присутствие снаружи. Находясь вне какого-то пространства, автоперсонаж способен переживать свое присутствие там – это особый род антиципации, частой в поэтике Аронзона: «поза, приобретенная / взятая напрокат» (1964–1966; № 285, 287). Потому и возможен у Аронзона такого рода «юмор стиля», как в строках варианта стихотворения «Мое веселье – вдохновенье…» (1969, № (115), <1>; т. 1, с. 365): «И долго я смотрел на это, / не зная, как мне хорошо». Здесь выражено не просто не сознающее себя блаженство; здесь взгляд извне переносит смотрящего в центр, а не будь именно такого взгляда, не было бы и блаженства.
2.4. Автоперсонаж как наблюдатель
Приводя постулат А. Вежбицкой об обязательности места в речевой ситуации 'X видит Y', Е. Падучева систематизирует употребление термина «Наблюдатель», вошедшего в научный обиход в 1960-е годы и узаконенного в 1986 году Ю. Апресяном. Утверждая, что «Наблюдатель – лицо, которое во многих отношениях подобно Говорящему», ученый различает их на том основании, что «говорящий называет себя „Я“, а наблюдатель назвать себя не может никак» [Падучева 2008]. Сводя роль Наблюдателя к модусу семантики («Наблюдатель – это семантическая роль» [Там же]), Падучева склонна видеть в нем «не представленного на поверхностном уровне участника ситуации» [Там же], сохраняющегося как «субъект сознания» [Падучева 2006]. Именно такие отношения характерны для тех инстанций, которые представлены в поэзии Аронзона: «говорящий» – поэт – говорит «я», тогда как автоперсонаж-«наблюдатель» безгласен и может быть обозначен любым из трех лиц. Это интуитивно почувствовал Кривулин как «существование на границе бытия и небытия, „я“ и не-„я“», «стремление к анонимности, растворение „я“ в „другом“» [Кривулин 1997: 178]. Действительно, здесь, по мысли Бахтина, «благодаря известному овеществлению» «сознание <..> дано как нечто объективное (объектное) и почти нейтральное по отношению непроходимой (абсолютной) границы „я“ и „другого“» [Бахтин 1997: 347].
Однако думается, что принципиальным для Аронзона было сохранить определенную форму «нераздельности – неслиянности» внутри поэтического двойничества; более того, для Аронзона в инстанциях его «я» не происходит конфликта, раскалывающего нечто цельное на «я» и «не-я» – Аронзон все отчетливее осуществляет программу, выраженную в Записных книжках кратким словосочетанием «Непрерывное Я» [Döring/Kukuj 2008: 317], что в поэзии выразилось в строках из поэмы «Качели»: «Идти туда, где нет погоды, / где только Я передо мной».
То «непрерывное Я», о котором и за которого проективно записывает Аронзон, воплощается в автоперсонаже его лирики, находящемся перед самим собой в другой ипостаси – поэта, передающего всё, что происходит с безмолвным созерцателем. Внутреннее и внешнее в мире аронзоновского автоперсонажа взаимозаменяемы и устремлены друг к другу, но никогда, пожалуй, полностью не совпадают. Это свойство мира Аронзона можно определить термином «апория», который подразумевает логически, словесно возможную ситуацию, невозможную, однако, в действительности (тогда как «парадокс» предполагает возможность в действительности и невозможность логическую). Апория – это ситуация невозможного, в которой пребывает автоперсонаж, созерцая неисчерпаемую красоту и испытывая переживание предельной интенсивности. Следя за развертыванием мира Аронзона, надо все время помнить, что это пространство, находящееся в поле зрения автоперсонажа, – апорическое, невозможное. Попадание внутрь этого пространства лишило бы автоперсонажа возможности созерцать, и поэтому он эту роль скорее отводит своим адресатам, как это выражено в «Пустом сонете» (1969, № 118): «Чтоб вы стояли в них, сады стоят». В этой строке наиболее четко выразилась аронзоновская апория – обусловленность появления его лирического субъекта, автоперсонажа: условием присутствия как его самого, так и его адресата является некая стабильность, константа, которой на самом деле как бы нет. Строка «Чтоб вы стояли в них, сады стоят», где вместо союза «чтобы» потенциально читается союз «если», в пределе могла бы содержать местоимения первого лица – да она их скрыто и содержит, так как говорит о представшем взору автоперсонажа, перед которым разворачивается «непрерывное Я».
Бахтин в «Заметках» 1961 года утверждает, что «у человека нет внутренней суверенной территории <..> смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого» [Бахтин 1997: 344]. Если вторая часть наблюдения философа полностью подтверждается диалогической природой творчества Аронзона, то первую часть Аронзон, кажется, старается частично опровергнуть, представляя в качестве этой «суверенной территории» «ядро души» (выражение Бахтина) – не то «я», которое может быть передано содержательно, а то «я», которое может быть увидено в идеальном зеркале, «отражающем не видимость, а сущность» [Левин 1988: 11].
Сосредоточившись на изображении такого сущностного внутреннего, Аронзон не делает это пространство сознания окончательным «объектом для другого и для себя самого» [Бахтин 1997: 314], а выражает свое отношение к этому мгновенно проявляющемуся внутреннему пространству-сознанию посредством внеположного себе автоперсонажа. «При этом собственное слово <у Аронзона скорее иероглиф. – П. К.> становится объектным и получает второй – собственный же – голос. Но этот второй голос уже не бросает (от себя) тени, ибо он выражает чистое отношение, а вся объективирующая, материализующая плоть слова отдана первому» – взгляду (у Бахтина – «голосу») [Там же]. Автоперсонаж Аронзона несет собственный объективирующий взгляд на остающееся «без начала и конца» субъективное (субъектное) «я»-пространство – на мир, предстоящий взору созерцателя и остающийся миром-субъектом, «миром души». Этот взгляд превращает зримое автоперсонажем в достояние другого, как это происходит с открытием, совершенным художником из стихотворения «Стали зримыми миры…» (1967, № 78): художник «проявил / на доске такое чудо, / что мы, полные любви, / вопрошаем: взял откуда?», но представил своим творением в объективированном (объектном) виде то, что до конца объективировано быть не может. Как увиденное автоперсонажем-созерцателем, так и слово поэта об этом увиденном его не объективирует, оставляя свободным от окончательного, сформировавшегося отношения. Образы художника, «проявившего на доске чудо», и поэта, извлекшего недостающие для сонета шесть строк (см. «Забытый сонет», 1968, № 97), представляют ипостаси творца искусства, который посредством «звуков, красок и слов, / сочетаний их и тем» (№ 78) делает сотворенное Богом доступным «иконы свите» – зрителю, слушателю. Но о том, «взял откуда» (этот вопрос звучит в стихотворении «Стали зримыми миры…» и не находит ясного ответа), как «проявляются» или «извлекаются» краски и слова, автор умалчивает: ответ находится вне поля зрения автоперсонажа. Оставаясь обозначаемым местоимением «я», автоперсонаж так и не превращается в субъект-для-себя (собственную тему, по Бройтману) и видим объективно; видимое же им не существует ни для кого, кроме автора, и то в «умном зрении» последнего. Автоперсонаж, видимый автору, продолжает созерцать внутреннее пространство, то есть всегда обращен «лицом» к автору; но сам он видим и читателю, который «узнает» в нем Аронзона-персонажа, «как-бы-Аронзона».
Так, в двух катренах «Забытого сонета», датированного «май, день» (<1968>, № 97), представлен автоперсонаж, находящийся в промежуточном состоянии бессонницы-неумирания – очень характерном для него в широком контексте всего творчества Аронзона: «Весь день бессонница. Бессонница с утра. / До вечера бессонница. Гуляю / по кругу комнат. Все они, как спальни, / везде бессонница, а мне уснуть пора». Но каждый раз он заново попадает в это состояние, словно не сохраняя памяти о предшествующих в нем пребывании: «Когда бы умер я еще вчера, / сегодня был бы счастлив и печален, / но не жалел бы, что я жил вначале. / Однако жив я: плоть не умерла». Это лишний раз свидетельствует о том, что поэзии Аронзона не свойственна идея становления (в этом поэзия Аронзона противоположна поэзии Блока, в ней нет «идеи пути»[92]).
Если лирический субъект есть выразитель сознания своего автора как первичной инстанции, то автоперсонаж, сам не выражая ничьего сознания и не будучи фактом непосредственного и наивного исповедального самоотношения автора, находится на сложном пересечении нескольких сознаний-взглядов. Применительно к творчеству Достоевского Бахтин писал о раскрытой писателем сложности простого феномена смотрения на себя в зеркало: своими и чужими глазами одновременно, встреча и взаимодействие чужих и своих глаз [Бахтин 1997: 346].
Это наблюдение можно отнести и к персонажу Аронзона: он есть зеркальное отражение своего автора и одновременно отражение сущности автора, неисчерпаемой и неуяснимой ни для кого. Эксплицитно или имплицитно присутствующее «я» автоперсонажа – тот случай омонимии, который зорко описан Г. Шпетом в работе «Сознание и его собственник» (1916)[93]. Это «я» овеществляется как объект изображения, но при этом может исчезнуть (умерев или попав в какое-то пограничное состояние), что позволяет видеть в нем подобное тому, что Мандельштам назвал у Данте «гераклитовой метафорой»:
Иногда Дант умеет так описывать явление, что от него ровным счетом ничего не остается. Для этого он пользуется приемом, который мне хотелось бы назвать гераклитовой метафорой, – с такой силой подчеркивающей текучесть явления и такими росчерками перечеркивающей его, что прямому созерцанию, после того как дело метафоры сделано, в сущности, уже нечем поживиться [Мандельштам 1990: 232].
Так, в «Мадригале» (1965, № 33) автоперсонаж, сливаясь с поэтом, рисует «на глине полдня» голос возлюбленной и стирает его, чтобы «завтра утром вспомнить» – то есть возобновить, начать снова это вписывание одного из свойств адресата в ландшафт и снова есть «стереть». Такой персонаж живет «в пустых домах» (1966, № 57) или, гуляя среди людей, оказывается «заметно одинок» (1967, № 64), или «взирает на свечу, которой нет» (1968, № 83); он может быть представлен пережившим смерть и обретшим свое «я» в окружающем его пейзаже или – парадоксально – автопортрете[94], что становится мотивом таких, например, стихотворений, как «Ты слышишь, шлепает вода…» (1963, № 253, «Когда я, милый твой, умру…»), «Послание в лечебницу» (№ 6, «Сквозь меня прорастает <..> трава»), «Там, где булыжник тряс повозкой» (№ 36, «я умер, реками удвоен»). Но и в таком случае автоперсонаж продолжает пребывать в своем мире, пусть и бесплотно, как выражено в грустном размышлении: «Когда, душа, я буду только ты…» (1968, № 87) – высказанная мысль приходит к собственному опровержению, подвергается сомнению; по этому же принципу построено стихотворение «О, как осення осень! Как…» (1969, № 111). Сама же метафора у Аронзона предполагает потенциальную возможность преобразиться, превратиться во что-то иноприродное, как в стихотворении «Люблю смотреть, когда моя тоска…» (1966, № 41) тоска, смех, любовь, недоумение персонажа воплощаются в лесных зверей.
Эта идея воплощения реализуется у Аронзона в особой театральности, присущей его поэзии. Некоторые произведения обладают чертами «ролевой лирики»: их герой примеряет маски и говорит сообразно принятой роли (это можно видеть в отдельных репликах «драматического» стихотворения «Гобелен» или в сонете «Горацио, Пилад, Альтшулер, брат…»). По Корману, такой персонаж выступает в двух функциях: «С одной стороны, он субъект сознания; с другой стороны, он объект иного, более высокого сознания» [Корман 1992 г: 177], – именно во второй ипостаси двусубъектного сочетания я и предлагаю видеть автоперсонажа. Можно сказать, что, в свете строгой концепции лирического героя, персонаж Аронзона «обгоняет» автора, словно заставляя его в биографии поступать по сценарию поэтического, лирического развития. Это, кажется, нечастый случай в литературе, и удержаться в следовании такой логике от мифологизирования очень трудно. При этом герой поэзии Аронзона обладает единством во всем целом его творчества, в нем воплощены глубокие раздумья Аронзона о сущности искусства, вынесенные мной в эпиграф к этой работе.
2.5. Автоперсонаж как лирический автопортрет
Автоперсонаж – своего рода лирический автопортрет. В. Эрль и А. Альтшулер писали о поэзии состояний у Аронзона, но, как утверждает классическая эстетика, «лирика всегда изображает лишь само по себе определенное состояние» [Шлегель 1983: 62], квинтэссенцию состояния. Если принять это наблюдение, то надо согласиться и с тем, что основная тема лирики Аронзона – он сам, его лирический герой. Но это не совсем точно. В пределе Аронзон говорит о высшем напряжении при восприятии красоты – важнейшего для него атрибута Божественного. И основной темой тогда следует признать не самого персонажа, а то, что предстает его взору, – рай, его «изображение». Состояния же, переживаемые лирическим героем, выступают следствиями созерцания, пусть бы они сопровождали это созерцание или возникали из-за недоступности видения.
Лирический автопортрет у Аронзона запечатлевает взгляд, как правило, обращенный не на «зрителя». Это сопоставимо с теми персонажами картин Каспара Давида Фридриха, которые повернуты к зрителю спиной. Яркий пример представлен в финале стихотворения «Была за окнами весна…» (1967, № 62): «…я обращен был, как кобыла / к тому, кого она везет», хотя эта поза может показаться и нехарактерной: автоперсонаж здесь отвернулся от мира, скорее всего – «к небу обратясь» или «лицом к небытию». Пожалуй, в этом «автопортрете» мы узнаём Аронзона по направлению взгляда, в котором сознание готово к диалогу с видимым.
Историк искусства М. Фабрикант определяет сущность автопортрета совмещением в одном лице «заказчика» и «автора», не исключающим взаимной неудовлетворенности, чем и объясняется длинный ряд автопортретов Рембрандта: «…элемент исканий преобладает над законченными решениями, которые художник мог бы представить как официальный „Портрет“ Рембрандта» [Фабрикант 2005: 11]. Разумеется, в силу громадного различия между пластическим и словесным искусством объяснять всё новые и новые обращения поэта к лирическому «я» поиском наиболее адекватного выражения личностной субстанции – значит упрощать не только творческий процесс и многообразие его результатов, но и никогда не завершимую личность. Лирическое «я», кажется, более отчетливо может высказать себя, нежели «я» художника, ищущего проникновения к глубинному через собственные внешние черты, в момент вглядывания отчуждающиеся от смотрящего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Л. Аронзон. Из записных книжек [Döring/Kukuj 2008: 344].
2
«Родом он был из рая, который находился где-то поблизости от смерти», – спустя десятилетие после гибели Аронзона написала его вдова Рита Пуришинская [Аронзон 1990: 75]. О Парадизе, виденном Аронзоном в городе и его окрестностях, говорит Е. Шварц в заметке «От составителя», завершающей книгу избранных стихотворений и прозы поэта [Аронзон 1994: 97]. В лекции «Русская поэзия как hortus clausus…» Шварц говорит обо всем творчестве Аронзона как о мистерии, от которой нам достались только фрагменты, и они «проникнуты могучим райским блаженством, как будто он <Аронзон. – П. К.>, живя на земле, в то же самое время жил в раю или в каком-то ином измерении» [Шварц 2008: 55].
3
Обе эти традиции соединяет Олдос Хаксли в знаменитом эссе «Doors of Perception. Heaven and Hell» (1954), имевшем хождение в самиздате. Вне зависимости от того, был ли знаком с ним Аронзон, психоделическое измерение рая ему не было чуждо. В данном исследовании будет произведена попытка сказать о рае Аронзона не как о мифе или экстатическом видении, а как о конкретной поэтической концепции творчества.
4
Здесь и далее все отсылки к [Аронзон 2006] обозначаются в тексте указанием номера стихотворения. В случае текстов из раздела «Другие редакции и варианты» номер заключается в дополнительные скобки. Если приводится цитата из длинного текста – поэмы, пьесы или прозаического произведения, – то после номера в тексте указывается том и страница. Номеру текста предшествует дата создания.
5
Во избежание недоразумений в связи с употреблением слова «утопия» замечу, что И. Семенко, говоря о поэзии К. Батюшкова, по ее мнению впервые в русской поэзии создавшего образ лирического героя – в качестве предмета изображения, характера, индивидуальности, утверждает, что поэт создал жизнь своего персонажа как «заведомую утопию, „украшенный мир вымыслов“», чем и объясняет населенность стихов Батюшкова условными образами [Семенко 1977: 448]. Аронзон создал личную, индивидуальную утопию, точнее – атопию, которая везде и нигде, вечна и мгновенна и которая, по сути, в физическом мире невозможна.
6
Ср.: «свет – это тень, которой нас одаряет ангел» (1964, № 5).
7
Повторяющаяся строка из стихотворения Аронзона «На стене полно теней…» (1969, № 127); завершает также стихотворение того же года «Увы, живу. Мертвецки мертв…» (№ 128).
8
См. стихотворение «Лесничество барских прудов…» (1961, № 197).
9
Думается, некоторые следы раннего воздействия поэзии Есенина сохранились и в зрелом творчестве Аронзона; укажу на «имажинистское» стихотворение 1919 года «Душа грустит о небесах…», тематика, образность, мироощущение которого кажутся отозвавшимися в стихах Аронзона.
10
Сообщено автору вдовой поэта А. Миронова – Г. Л. Дроздецкой.
11
См., например, сонет 1965 года «Движение» (№ 19) с мотивом паралича. В стихотворении 1964 года «Полдень» (№ 8) присутствует намек на А. де Сент-Экзюпери, потерпевшего крушение в пустыне; его образ ассоциируется если не с неподвижностью, то с ограниченностью в движениях. Вопрос о возможных «далеких» влияниях на творчество Аронзона в данной работе не решается, однако заметим, что темы одиночества в пустыне и близости смерти, а также мотив видений в жажде найти собеседника восприняты поэтом из «Маленького принца» (первый русский перевод выполнен Н. Галь в 1958 году) и «Планеты людей» (перевод Г. Вилле опубликован в 1957 году, а Н. Галь – в 1963-м).



