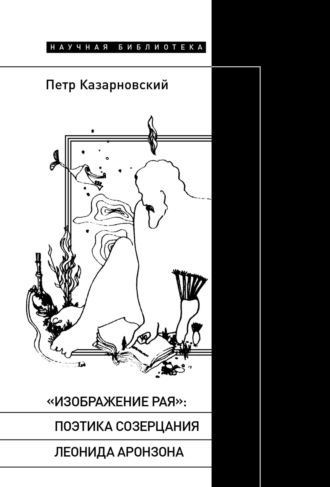
Полная версия
«Изображение рая»: поэтика созерцания Леонида Аронзона
Володя, ведь понятно, что нам ничего не светит. Пока все это делается <имея в виду советскую систему, – поясняет мемуарист>, нам все равно не удастся ни напечататься, ни жить по-человечески. Давай напишем коллективное письмо: пускай нас расстреляют к чертовой матери. Все равно мы будем внутренними врагами до конца своих дней [Эрль 2011: 103][37].
Аронзону были чужды как советская общественная жизнь, так и деятельное противостояние системе. Об этом по-разному говорили почти все писавшие об Аронзоне. Так, Степанов в начале своего исследования справедливо утверждает:
Если магистральному пути поэзии 1960-х была присуща социальная острота и рациональная ясность, то Аронзон избрал свой, с годами все более непохожий на другие маршрут <..> Вне зависимости от объектов непосредственного изображения в центре <его> внимания находятся состояния не реального мира, а мира собственного сознания… [Степанов А. И. 2010: 13–14]
Однако вряд ли можно до конца согласиться с мнением Ж. Сизовой, будто, сопротивляясь обыденному сознанию, поэт избирает «чувство красоты как некий эстетический императив» [Сизова 2018: 94][38]. Думается, что эта теория страдает изначально неверно установленным вектором: поэт Аронзон не ставил перед собой задачи сопротивляться чему-либо, в этом смысле он уходит от экзистенциальной остроты, как бы устраняя противоречие между «сущностью» и «существованием»/«экзистенцией»[39]. Здесь уместно привести еще одно высказывание исследователя – на этот раз И. Кукуя:
Высочайшей поэтической заслугой Аронзона представляется <..> то, что он оставил пространство творчества свободным как от отпечатков взаимоотношений, так и – за редкими исключениями – от своих кошмаров [Кукуй 2008: 29–30].
Можно сказать, что, сосредоточенный на создании в творческом акте своеобразной полноты, Аронзон сторонился выражения чего-либо отрицательного, неприязненного; исключением из общего контекста его поэтических произведений является стихотворение «Как часто, Боже, ученик…» (1968, № 323), в котором резко изобличается неблагодарность вчерашнего ученика и друга. Стремлению к поэтической и жизненной полноте для Аронзона способствовала атмосфера любви и дружбы.
С 1966 года и до конца короткой жизни Аронзона продолжалось его интенсивное общение с художником-абстракционистом Евгением Михновым-Войтенко: Михнов стал для Аронзона, как и Альтшулер, ближайшим другом и собеседником, героем его произведений. Приблизительно тогда же в круг Аронзона вовлекается художник Юрий Гале́цкий, в 1960-е принимавший участие в литературных проектах Хвостенко и его круга «Верпа». В доме Аронзонов частыми гостями бывали поэты Юрий Сорокин, Олег Григорьев, Виктор Кривулин, Виктор Ширали, Роман Белоусов, художник и писатель Леон Богданов, режиссер и теоретик театра Борис Понизовский, друзья по институту Лариса Хайкина, Юрий Шмерлинг, Игорь Мельц, кинорежиссер Феликс Якубсон…
К концу 1960-х годов в душе поэта начал назревать разлад. В записных книжках встречается все больше записей о безвыходности, в стихах все отчетливей проступают контуры другого мира, в который устремлен его персонаж. Одна из навязчивых идей этого времени – забытье, тщетность всего земного. В записной книжке за 1968 год есть запись: «Стоит кому-то отличиться мыслью, как начинается ее эпидемия, а я хочу, чтобы меня забыли» [Döring/Kukuj 2008: 384][40]. По воспоминаниям близких, усиливалась депрессия.
Круг друзей и единомышленников не решал основной проблемы Аронзона: остро ощущавшейся поэтической невостребованности. Отсутствие возможности свободного высказывания при сознании ценности создаваемого болезненно отражалось на общем психологическом состоянии:
Условия страны лишали меня оплаты за то, чем я удовлетворял свою потребность трудиться, и вынуждали заниматься промыслом, который был мне отвратителен («Сегодня был такой день…», № (294). Т. 2. С. 213).
По свидетельству брата, Аронзон не раз повторял: «…признание имеет значение» [Аронзон В. 2011: 227]. Схожим образом ситуацию post-factum, уже в 1979 году, оценивала Пуришинская: «Стихи его при жизни не печатали никогда. Настроение было плохое»[41]. По настоянию жены в 1969 году Аронзон проходит курс лечения от депрессии. Осенью следующего года он признается брату, что очень тяготится работой на киностудии:
Л<еонид> сказал, что писание сценариев не его дело, а его дело – это стихи, но два дела одновременно хорошо делать не может, должно быть либо то, либо другое [Аронзон В. 2011: 227].
Тревожностью особенно проникнут последний год жизни Аронзона: ему все теснее становилось в сложившихся рамках быта, не подразумевавших осуществления как поэта… Об этой тревоге свидетельствуют письма Риты тех дней, адресованные к ее подруге Ларисе (опубликованы в 2019-м)[42].
В ноябре 1970 года, несмотря на запланированную совместно с Альтшулером поездку, Аронзон выехал в Узбекистан один; вслед за ним отправились жена и друг. Трагедия произошла ночью с 12 на 13 октября в горах под Газалкентом: Альтшулер нашел друга раненным в живот, рядом валялось ружье. В больнице не было достаточных возможностей для оказания необходимой помощи потерявшему много крови. Когда в Узбекистан приехала мать Аронзона Анна Ефимовна, Леонида уже не было в живых. Его похоронили на кладбище Памяти жертв 9 января в Ленинграде. Впоследствии на могиле было воздвигнуто надгробие работы скульптора Константина Симуна. Официальная версия – самоубийство – была принята матерью Аронзона и Ритой, чтобы снять абсурдные подозрения в адрес Альтшулера. Многие младшие современники, согласившись с таким вариантом кончины, стали строить миф о поэте на шатком фундаменте предположений. Часть лично знавших погибшего отвергала версию самоубийства, отнесясь к событию как к несчастному случаю: уж слишком любил Аронзон жизнь, слишком нелеп был способ уйти из жизни, выстрелив себе дробью в живот…[43]
Можно предполагать, что если не смерть, то весь образ жизни и способ поэтической самореализации явились экзистенциально осознанным выбором Аронзона. В схожем русле формировалась «метафизическая» (по определению Кривулина – «спиритуальная» [Кривулин 2000]) направленность ленинградской поэзии последующей эпохи. В. Кривулину слышится в стихах Аронзона слабый осенний шорох, перерастающий в органное звучание потаенной музыки смыслов, недоступной обыденному сознанию, но открывающейся как психоделическое озарение, как пространство продуктивных повторов и постоянных возвращений к уже сказанному – чтобы снова и снова обозначать новые уровни метафизического познания того, что на языке современной философии именуется отношением Бытия к Ничто [Кривулин 1998: 155].
В интервью, данном В. Полухиной, Кривулин так определяет путь формирования своей поэтики, которую расценивает близкой поэтике Аронзона:
Существование на границе бытия и небытия, «я» и не-«я», это есть и у Бродского, но чего, на мой взгляд, нет у него – стремления к анонимности, растворения «я» в «другом». А меня интересует именно эта анонимность [Кривулин 1997: 178].
Борис Иванов так представил значение фигуры Аронзона для последующей ленинградской поэзии:
Благодаря его творчеству поэзия семидесятников не остановилась ни на тривиальности контркультурных демаршей, ни на плоскостных сексуальных переживаниях. Высокий строй его поэзии стал введением в культуру плоти. Аронзон чувствовал себя среди поэтов-сверстников «запоздавшим», а ушел из жизни как провозвестник нового культурного проекта. Этим объясняется скептическое отношение к его творчеству «шестидесятников» (в том числе Бродского) и его культ у «семидесятников» [Иванов 2011: 239].
Литературовед, публикатор наследия Льва Пумпянского, а в 1960-е поэт круга Малой Садовой и историограф этого движения Николай Николаев запомнил высказанную Аронзоном в разговоре о славе мысль: «…хотел бы добиться славы, а потом уйти в неизвестность…» [цит. по: Аронзон 2006: I, 16]. Судьба распорядилась иначе: из почти полной неизвестности при жизни творчество поэта на протяжении пятидесяти с лишним лет после 1970 года постепенно обретает своего читателя.
1.2. «Пойдет кино про Аронзона»[44]: наследие поэта на пути к читателю
Ярким свидетельством роли Аронзона в становлении ленинградской «второй культуры» является история освоения и публикации его наследия. Этот процесс начался уже в первые годы после его смерти: активизировавшийся к середине 1970-х годов литературный самиздат города большое внимание уделял публикациям поэтов, которые ушли из жизни, так и не дождавшись заслуженного прочтения, – в первую очередь Роальда Мандельштама (1932–1961) и Аронзона. Не случайно их стихотворениями должна была открываться литературная антология «Лепта», состоявшая из произведений тридцати двух неофициальных авторов и поданная составителями в 1975 году к публикации в секретариат Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР[45]. Творческое наследие Роальда Мандельштама и Аронзона, только вводимое в обиход, представляло собой после смерти авторов законченное целое и требовало выработки подхода как к текстам, так и к судьбам поэтов.
Первые «независимые» посмертные публикации Аронзона, дающие более или менее обширное представление о его творчестве, появились в 1974 и 1975 годах благодаря усилиям и энтузиазму «рыцаря ленинградской поэзии»[46] Константина Кузьминского в его антологиях «Живое зеркало» и «Лепрозорий–23», в чем ему оказывали содействие вдова поэта Пуришинская, а также поэт и текстолог Эрль – составители подборки Аронзона в «Лепте». 18 октября 1975 года, когда Кузьминского уже не было в СССР (он эмигрировал летом 1975-го), в ленинградском Политехническом институте прошел вечер памяти Аронзона, дневниковые записи Юлии Вознесенской о котором станут впоследствии предварением блока, посвященного поэту в томе 4А антологии «У Голубой Лагуны»[47]. В 1977 году появились публикации Аронзона в недавно созданных самиздатских журналах «Часы» (№ 7) и «37» (№ 12). Творчество поэта, присутствовавшего до тех пор в пространстве ленинградской неофициальной культуры скорее в качестве мифологемы[48], начало путь к читателю – пока в рамках сам- и тамиздата[49]. В официальной печати в тот же период, кроме нескольких стихотворений для детей, была опубликована лишь небольшая подборка стихов Аронзона в журнале «Студенческий меридиан» (1976, № 4), сопровожденная немногословными сведениями об авторе.
В 1979 году в приложении к журналу «Часы» вышло «Избранное» поэта, составленное Еленой Шварц и впоследствии ставшее основой для первой типографской книги Аронзона, выпущенной в Израиле [Аронзон 1985], а затем с небольшими изменениями напечатанной в России (СПб.: Камера хранения, 1994). Важное место в библиографии поэта занимает публикация его текстов в антологии «У Голубой Лагуны», составленная и прокомментированная Кузьминским [Кузьминский 1983б: 84–131][50]. В 1985 году в приложении к журналу «Часы» вышел большой самиздатский том «Памяти Леонида Аронзона (1939–1970–1985)», составленный Эрлем и Степановым и на тот момент являвшийся самым обширным изданием поэта. В 1990 году стараниями Эрля в издательстве Ленинградского комитета литераторов был опубликован первый официальный сборник стихотворений Аронзона, а в 1998-м в издательстве Gnosis Press вышло избранное поэта «Смерть бабочки» с параллельными переводами на английский язык, выполненными Ричардом Маккейном (сост. Виктория Андреева и Аркадий Ровнер).
В годы перестройки сочинения Аронзона публиковались во множестве газет, журналов, альманахов, антологий[51]; появлялись различные исследования его поэтики, высказывания о нем. В 2006 году усилиями В. Эрля, И. Кукуя и П. Казарновского было выпущено собрание произведений поэта в двух томах (Издательство Ивана Лимбаха, СПб.; переиздано в 2017 и 2024 годах; далее как Собрание произведений). В 2011 году вышла книга детских стихотворений поэта «Кому что снится и другие интересные случаи» (М.: ОГИ; иллюстрации Анны Флоренской). В последующие годы прошло несколько конференций, где поэзия Аронзона обсуждалась наряду с крупными явлениями 1950–1980-х (например, проведенная в 2020 году под эгидой РГГУ международная конференция «Восемь великих: Айги, Алексеев, Аронзон, Бродский, Некрасов, Сапгир, Соснора, Холин»[52]). Причисление Аронзона к числу великих не кажется преувеличением, как и на первый взгляд нескромные слова вдовы поэта, переданные Ирэной Орловой: «В русской поэзии есть Пушкин и Аронзон»[53].
Осмысление творчества Аронзона происходило параллельно с публикацией его произведений. На первом вечере памяти поэта в Политехническом институте 18 октября 1975 года. Поэт Олег Охапкин предложил рассматривать творчество Аронзона как начало «бронзового» века русской поэзии, «который является „продолжением“ „серебряного“ века» [Вечер памяти 1975: 38], а Кривулин охарактеризовал его «поэтом-в-жизни, т. е. необычайно артистичным, необычайно острым человеком», и отметил существенную черту восприятия Аронзона современниками: «<..> он был окружен мифом, мифом, в котором поэзия была центром, но центром скрытым» [Там же: 41]. В том же выступлении Кривулин высказал важные мысли о том, что в поэзии Аронзона, наряду с обэриутским «„распредмечиванием“ мира за счет того, что каждая вещь в стихе до отвращения приближена к глазам читателя, стоит перед вами как данность» [Там же: 42], присутствует движение «каждого стихотворения», «каждой строчки» «к молчанию, растворению» [Вечер памяти 1975: 41]. Этот тезис впоследствии ляжет в основу первопроходческой работы А. Степанова «Главы о поэтике Леонида Аронзона» (1985), до сих пор сохраняющей свою остроту и актуальность в силу поставленных перед «аронзоноведением» задач и ряда ценных наблюдений.
Степанов дает четкую, хотя и не бесспорную, периодизацию творческого развития Аронзона. Первый период, продлившийся примерно до 1964 года, характеризуется «освоением предшествующих литературных традиций» [Степанов А. И. 2010: 15], но и включает в себя предварение дальнейшей эволюции; второй – с 1964 по 1967 год – знаменуется, по мнению исследователя, приходом Аронзона к темам, которые станут основными для всего его творчества: «восхищение красотой, любовь, смерть, природа, Бог, плоть, дружба, одиночество, тишина, отражение» [Там же: 16], окончательно оформляется узнаваемый стиль; в третий, заключительный, период творчества обострились трагические мотивы, традиционное и авангардное сталкиваются решительнее, в словесное искусство проникают методы других видов искусства. Исследователь резонно предполагает, что «начинался новый, четвертый период», черты которого в достаточной мере обозначились определенно, но в силу трагической гибели Аронзона всего в 31 год не успели реализоваться [Там же: 18]. Степанов довольно подробно намечает вписанность поэта в русскую поэтическую традицию (Пушкин, Баратынский, Лермонтов), рассматривает свойственные Аронзону тяготение к диалогу с традицией, к простоте, снижению (профанированию) серьезности и «высокого стиля», к цитатности. В «совмещени<и> и столкновени<и> того, что прежде казалось непреодолимо различным», Степанов справедливо усматривает новаторство Аронзона. В основу центральной для всей работы главы «Особенности художественного слова в поэтике Аронзона» легло рассмотрение таких важнейших для этой системы поэтических концептов, как «молчание» и «время». Глава «Мотив отражения» целиком посвящена этому смыслообразующему принципу поэтики Аронзона: он не только вызывает к жизни такие устойчивые образы, как зеркала, двойники, но и влечет за собой «расщепление реальности» [Там же: 63]. В главе «Эстетическая позиция» рассмотрены экзистенциальные составляющие преимущественно любовной лирики как средоточия жизнечувствования Аронзона: переплетение Эроса земного и Эроса небесного в этой поэзии приводит к нераздельному сплетению высокого и низкого, серьезного и фривольного, трагичного и комичного, когда уже не отличить, не вычленить одного чистого субстрата. Глава «Формы и функции концепта в произведении» посвящена кристаллизации «философичного», «развоплощенного» мира Аронзона; здесь исследователь обращает внимание на роль парадокса, алогизма, иронии, тавтологии в воссоздании поэтом «иррациональных зигзагов» противоречия и конфликтов живой личности с «безличными постулатами разума» [Там же: 80]. Глава «Мифологические и религиозные черты творчества Аронзона» рассматривает присутствие «признаков сакрального, в том числе мифологического, мышления» [Там же: 83]. Для этого автор использует широкий арсенал античной и библейской мифологии: приводя строки не только из произведений поэта, но и из его записных книжек, исследователь деликатно определяет сложность, неортодоксальность отношения Аронзона с Богом, с творением: «Человек испытует глубину небес <..>, переживает свою отъединенность от них и в этой деятельности утверждает себя как творца» [Там же: 88]. Заключительная глава «Существование и небытие» подводит итог всем наблюдениям, сделанным в работе, и суммирует их в новом аспекте – в «фокусе» смерти, о которой поэт размышлял очень много на протяжении всего недолгого творческого и жизненного пути. Степанов, не боясь самоповторов, воспроизводит сквозные положения создаваемого Аронзоном «мифа», имманентно ищет единства творческого и жизненного в таком непростом явлении, как Леонид Аронзон; именно здесь, в финальной части работы, исследователь много места уделяет рассмотрению поэтического и философского (отчасти даже эзотерического) концепта «пустоты», тяготеющего к центру – сердцевине творческого континуума Аронзона.
Если Степанов в основном сосредоточен на имманентном анализе творчества Аронзона, то Борис Иванов в большой статье «Как хорошо в покинутых местах…» [Иванов 2011], помещенной в монографическом сборнике «Петербургская поэзия в лицах» под его общей редакцией, сосредоточен на культурологическом и социальном аспектах и самой поэзии Аронзона, и ее отражений в сознании читателей. Избранный Ивановым метод кажется далеко не всегда оправданным: некоторые его выводы представляются по меньшей мере странными, тенденциозными. Так, критик, – а именно с позиций нравственно-философской публицистики, сформировавшейся в недрах журнала «Часы» во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов, автор и высказывает свои суждения, – немало внимания уделяет общим для начала 1960-х веяниям в ленинградской неподцензурной поэзии и утверждает с неизбежной долей обобщения:
Отделив человеческую телесность от социума, он <Аронзон. – П. К.> создал культурное тело оппозиции, с образованием которого высеивались внутри советской социальной ткани инородные клетки, открытые свободным культурным изменениям [Там же: 238].
Разумеется, следует иметь в виду, что Иванов, в силу сложившейся еще в 1970-е годы (если не раньше) традиции, воспринимал любую форму неподцензурности как метод противостояния режиму, а то и борьбы с ним. В нашем случае такой подход кажется слишком односторонним и не учитывающим специфики творческого процесса Аронзона: поэт писал в стол, рассчитывая (отчасти вынужденно, отчасти сознательно) быть понятым только ближайшим окружением, тогда как распространение его текстов – дело его близких и друзей, осуществлявшееся без учета желаний автора. Трудно себе представить автора, отчужденного от широкого читателя и одновременно ставящего цель произвести какие-то изменения в обществе… Часто создается впечатление, что, пытаясь разобраться в феномене Аронзона (не столько поэтическом, сколько социально-культурном), критик злоупотребляет навязыванием миру поэта своих мерок, как будто осуждая игнорирование Аронзоном социально-политических и этических доктрин и мотивов. Вместе с тем в статье Иванова содержится немало интересных наблюдений. Как современник и активный свидетель описываемого времени, он находит весьма убедительное обоснование уходу Аронзона «в природу» – литературным контекстом, создавшимся во второй половине 1950-х – начале 1960-х: публикация произведений Михаила Пришвина, вступление в литературу Юрия Казакова, Рида Грачева, молодые герои которых решительно рвут с городской цивилизацией (в этом ряду упомянут и Сергей Вольф, бывший с Аронзоном в приятельских отношениях). Тяга Аронзона к почти руссоистской естественности, «мировоззренческий сенсуализм», созвучные декларируемым поэтом Александром Кондратовым (тоже знакомым Аронзона) «трем способам сохранить свое „я“ – творчество, секс, наркотики» [Там же: 160], позволили Аронзону, по мнению критика, как мало кому из его поколения, достичь в своем творчестве «той цели, которую поставило перед собой поколение, – чувственной раскрепощенности» [Там же: 220]. Открытие «двойного сознания», разработка «эстетики тождественности», «поэтики изоморфизма», убежден Иванов, способствуют замыканию поэзии Аронзона на «эго-мифе» с главным «другим» – Природой. Именно таким критику предстает замысел поэта – «достичь единства „всё во всем“» [Там же: 195], что в итоге приводит к «редуцированию до голого состояния, в котором мы узнаем <..> музыку без музыки, сонет без слов – все в свернутом виде, названном, но несуществующем» [Там же: 215]. Иванов приходит к выводу, что Аронзон – «поэт, который спустился в подземелье, в котором спят эмбрионы всех человеческих инстинктов, и с ними поднимался, когда они просыпались к дневной жизни» [Там же: 217]. Восхищаясь поэзией Аронзона и отдавая должное его первооткрывательской миссии, Иванов ищет философского (экзистенциалистского) объяснения, как и почему «миф слился с <..> личностью» [Там же: 223], правда в основном игнорируя слова поэта из позднего текста: «…я не люблю таких людей, как я» (1970; № 299; т. 2, с. 121), где довольно отчетливо декларируется освобождение от личного. Большой этюд старейшего деятеля самиздата, бессменного редактора журнала «Часы» сочетает в себе аналитическое и беллетристическое начала, что вызвано очевидной задачей автора – представить Аронзона с его творчеством как закономерное явление нарождавшейся тогда «второй культуры».
Работы Степанова и Иванова – самые большие по объему исследования, непосредственно связанные с Аронзоном. Здесь нельзя также обойти стороной статьи, которые писались с середины 1970-х годов, и выступления на вечерах памяти. Хотя эти тексты грешат ошибками и неточностями, в условиях там- и самиздата вполне объяснимыми, некоторые соображения, в них высказанные, до сих пор кажутся важными и заслуживают внимания. Так, например, в легендарном «Аполлоне–77» Виктория Андреева, отмечая в поэзии Аронзона «большую интенсивность вхождения в себя», говорит о «беспощадном наблюдении границы, где находится сфера нашего „я“, или где наше „я“ становится вторым, третьим» [Андреева 1977: 95][54]. Здесь важно обращение к теме самоидентификации поэтического «я» поэта. Впоследствии Андреева вернется к фигуре Аронзона и выскажет ряд ценных наблюдений[55].
Среди многих статей, написанных о поэзии Аронзона знавшими его лично, следует обратить особое внимание также на труды Д. Авалиани, А. Альтшулера, В. Кривулина, К. Кузьминского, В. Эрля[56]; из последующих свидетельств важно написанное Е. Шварц, Р. Топчиевым, В. Никитиным…[57] Показательно, что в некоторых случаях авторам оказывается тесно в рамках традиционной статьи, и они избирают жанр художественной рефлексии. Такова, например, «Статья об Аронзоне в одном действии» (1981) Елены Шварц[58] – небольшая абсурдистская пьеса с элементами миракля. Особое место в процессе освоения творчества Аронзона заняли стихи, посвященные ему поэтами-современниками и представителями последующих поколений; недаром составители самиздатского тома «Памяти Леонида Аронзона» включили в книгу раздел произведений круга поэта, где, наряду со стихами поэтов, «жизненно и творчески связанных с Аронзоном»[59], – С. Красовицкого, А. Альтшулера, Л. Ентина, В. Хвостенко, В. Эрля, В. Ширали – было напечатано посвященное Аронзону стихотворение Тамары Буковской.
С 1990-х положение изменилось; выход новых изданий поэта повлек за собой довольно большое количество обзорных статей в периодике, а затем и статей исследовательского характера. Так, заметным событием стала статья Владислава Кулакова «В рай допущенный заочно» (1994), вошедшая в книгу «статей о стихах» «Поэзия как факт» [Кулаков 1999]. В кратком, но насыщенном обзоре критик обозначает основные константы поэтического мира Аронзона: смерть, красота, любовь – и предлагает свое прочтение их тесной, «интимной» связанности друг с другом: недаром в статье автор прибегает к оксюморонным выражениям, подводящим близко к двойственному миру поэта: «смертельная красота жизни», «небесная красота земли», «гибельность бытия». Важным наблюдением автора статьи следует назвать неразличимость фундаментальных оппозиций в творчестве поэта, вследствие чего они оказываются обратимыми и снимаются, «растворяясь в красоте». Ценным наблюдением, сделанным Кулаковым, надо признать сопоставление миров Аронзона и его старшего современника Красовицкого – миров друг другу противоположных, как «два зеркальных варианта одного и того же универсума»: оба мира обратимы – от райской красоты к распаду и от распада к красоте.



