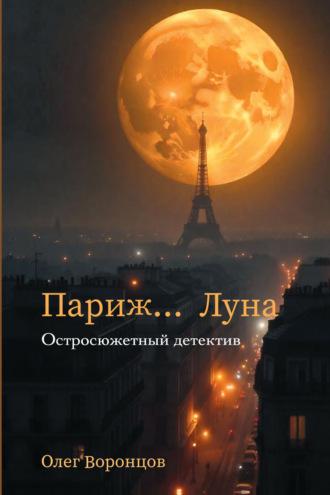
Полная версия
Париж. Луна…
Ему не доставляло никакого удовольствия быть чьей-то прихотью. Но, судя по всему, именно так оно и было. Сильные мира сего могли дёрнуть любую ниточку, и государственная машина, как хорошо настроенная и послушная марионетка, приходила в движение, цепляясь за воздух своими подвешенными ручками и по команде открывала рот. Ему в какой-то момент даже стало стыдно за себя. И ещё больше за Следственный комитет РФ. Теперь его пребывание на этой яхте в ветреный осенний день казалось не только нелепым, но и обидным.
Пока Орлов пил кофе, собираясь с мыслями, Волобуев незаметно его рассматривал. На вид ему было около пятидесяти. Лицо вытянутое, овальное. Высокий лоб и короткая стрижка ещё больше подчёркивали это обстоятельство. Нос был с небольшой горбинкой, глаза проницательные, серые, теперь хорошо сочетавшиеся с сединой. Скулы несколько выдавались на худом лице.
Эмоциональность собеседника подчёркивали морщины на лбу и возле глаз. Каждый раз при разговоре его лицо превращалось в живое «перекати-поле». Морщины двигались, соединялись, исчезали, опять всплывали, меняли направление, увеличивались и медленно замирали.
Наконец он откашлялся и начал, устремив свой проницательный взгляд на старшего следователя.
– Вам придётся выслушать, хоть и в сжатом виде, историю моей семьи, – улыбнулся хозяин яхты, хотя глаза его, при этом, оставались серьёзными и задумчивыми.
– Понятно, – вздохнул Волобуев, совершенно не уверенный в том, зачем он находился на яхте и чего от него хотели.
– Много лет назад старший брат моего прадеда, штабс-капитан Григорий Ипполитович Куприянов-Седой, был адъютантом генерала Свиты его Императорского Величества Павла Семёновича Свиридова. Прадеда моего звали Иван Ипполитович Куприянов-Седой. Родились они в семье потомственного военного, но мой прадед, в отличие от своего брата, отказался от военной службы и стал инженером. Он бредил аэропланами, тогда это было в моде, и потому выбрал специальность, которая могла открыть ему путь в небо. Григорий Ипполитович был женат на дочери богатейшего сибирского золотодобытчика Заносова. Заносов был известной личностью, меценатом, дружил со Столыпиным[1], пока того не убили, пользовался покровительством императорской семьи. Как раз на каком-то приёме в Санкт-Петербурге и познакомились его дочь и брат моего прадеда. Поженились они в 1916 году, а потом, как вы понимаете, жизнь их закрутила в жестокой свистопляске: Первая мировая война, потом революция большевиков, эмиграция… Но всё по порядку. Вы ещё не устали?
Волобуев усмехнулся.
– Устать не устал, но имена прилежно записываю. Раз вы начали с прадедов, то мне ещё предстоит много работы по вашей генеалогии, верно?
– Увы, что есть то есть, – задумчиво согласился Орлов. – Я постараюсь быть кратким, а вы потом сами решите, о чём расспросить меня поподробнее. Итак, брат моего прадеда с супругой и маленькой трёхлетней дочерью в ноябре 1920 года покинули, вместе с другими беженцами, Крым. Армия Врангеля разбита, шансов победить большевиков больше не оставалось. Их первая остановка – Константинополь. Многие оттуда перебираются в Болгарию, которая к тому времени уже приютила у себя остатки деникинской армии. Но брату прадеда удаётся вместе с семьёй добраться до Парижа. Однако долго они там не задержались, и через полтора года уехали в Берлин. Из-за инфляции жизнь в Германии была дешевле, чем во Франции. Не было такого наплыва русских, поэтому оказалось легче устроиться. Вы, Сергей Ильич, вообще представляете, сколько русских попало во Францию в период с 1919 по 1939 год?
Волобуев встрепенулся, как будто его застали врасплох.
– Много. Знаю, что много, но точной цифрой никогда не интересовался.
– Да, их было много по тем временам. Я сам не знал этой цифры, пока не стал интересоваться всей этой историей семьи. Сорок пять тысяч русских поселились в Париже и его пригородах. И это только Париж! По тем временам цифра неслыханная. Это сейчас никого не удивишь такими цифрами. Век глобализации, миграция населения и так далее. А тогда это было нашествие всего русского. Короче, до 1924 года брат прадеда с семьёй жил в Берлине, но после стабилизации немецкой марки и первых признаков нацизма они возвратились в Париж.
Волобуев кашлянул, давая понять, что хочет задать вопрос. Орлов остановил свой рассказ и выжидательно посмотрел на гостя.
– Михаил Анатольевич, насколько я вас правильно понял, жена брата вашего прадеда была не из бедной семьи. Что, в революцию они всё потеряли?
Олигарх усмехнулся.
– Сергей Ильич, вы действительно молниеносно соображаете и реагируете. Да, вы правы, реально это были очень богатые люди. Но это до революции и Гражданской войны. После всех катаклизмов они остались просто богатыми. Заносов имел недвижимость в Париже задолго до революции. Мой прадед ещё в 1918 году отдал своему брату кое-какие ценности и золотые червонцы. Сам же выбраться не смог. Заносов успел от кое-чего избавиться, переправив золото и семейные драгоценности в Париж. Но сам слишком долго задержался в России, веря в мощь Антанты[2]. Однако в этот раз просчитался. Его расстреляли красные без суда и следствия как предателя и финансиста врагов пролетариата. А, отвечая на ваш вопрос, замечу, что Григорий Ипполитович, разъезжая между Парижем и Берлином, искал не работу, а выгодное вложение своим уцелевшим капиталам. И, в том числе, своего брата.
Волобуев понимающе кивнул головой и что-то пометил в своём блокноте.
– Цифры имеют значение? – поднял он голову.
– Цифры, Сергей Ильич, всегда имеют значение. Но не в данном случае. Никто не знал, ни сколько дал мой прадед, ни сколько денег было у его брата. Да и дело, возможно, не в этих деньгах. Хотя, возможно, я и ошибаюсь…
Волобуев недоумённо посмотрел на Орлова.
– Что-то я потерялся в догадках. По вашим словам выходит так, что деньги, одновременно, имеют и не имеют значение.
Михаил Анатольевич опять усмехнулся и пристально взглянул на гостя.
– Видите, именно поэтому я был в раздумьях, с чего начать. Я и сам не знаю, что важно, а что не важно. Но в одном я уверен на сто процентов – вы в этом разберётесь лучше меня.
Опять наступила пауза. Орлов пытался выстроить логику своего рассказа, а Волобуев думал о том, чего же, всё-таки, от него добиваются.
– В 1926 году мой прадед получил письмо от брата. Оно, естественно, не сохранилось, но тот описывал своё житьё в Париже, работу, точнее инвестиции, и подробно рассказывал обо всех, кого они знали до революции и кто находился в тот момент там. Второе письмо пришло в 1928 году. А потом след его затерялся. Мой прадед, Иван Ипполитович, в 20-е годы устроился инженером на одном новом авиационном заводе в СССР. Его ценили, и даже очень. Несмотря на своё буржуазное происхождение, он занимал очень высокий пост, и не поднялся ещё выше только потому, что не был пролетарских кровей. Вы сами знаете из истории, Сергей Ильич, как относились в сталинские времена к буржуазным специалистам. В 1938 году в СССР приехала серьёзная немецкая делегация. Сталин тогда ещё верил в дружбу с Гитлером. Они обменивались делегациями, и каждый пугал друг друга своими техническими и военными достижениями. Так вот, визит немцев был спланирован таким образом, что заранее было известно о посещении завода, на котором работал мой прадед. И представьте себе, Сергей Ильич, произошла совершенно неожиданная сцена. Во время обхода цехов один из немцев незаметно передал моему прадеду письмо от брата.
Орлов на мгновение остановился, обвёл взглядом морской пейзаж за окном и продолжил.
– Но это тот по наивности предполагал, что всё произошло незаметно. Однако коммунисты были бдительные, кто-то из рабочих доложил кому надо, и на утро следующего дня за прадедом пришли из НКВД[3]. Письма они не нашли. К тому же, энкавэдешники его и не искали. Они пытались найти секретную бумагу, которую немцы передали врагу народа и немецкому шпиону… моему прадеду. Это его впоследствии так обозвали в документах знаменитой «тройки». Уж не знаю, как прадеда пытали и что с ним делали в застенках, но он признался во всех смертных грехах и подтвердил на суде, что был немецким шпионом. Вы ведь знаете, как тогда было?
Хозяин яхты выжидающе посмотрел на Волобуева.
– Да, конечно, знаком с этой страницей истории, – подтвердил старший следователь, выражая своим тоном полное сочувствие трагической судьбе Ивана Ипполитовича Куприянова-Седого.
– Скорее всего, – продолжил Орлов, – спасал жену и сына. Его расстреляли через три недели после визита немцев. К слову сказать, заводского особиста[4]расстреляли вместе с ним. За то, что поздно среагировал и прозевал факт передачи «шпионских документов». Естественно, что особист тоже признался, что являлся немецким шпионом. Как вы помните, в те времена было модным разоблачать иностранных шпионов и их пособников…
Старший следователь согласно закивал головой, однако ничего не сказал.
– Жена прадеда, Мария Александровна, и сын Юрий, которому тогда было почти шестнадцать, вскоре были отправлены в Киев. Прабабка моя была известной в СССР личностью, отличным переводчиком и великолепным преподавателем французского и английского языков. О ней даже однажды писала «Правда». После всех этих событий с прадедом ею решили укрепить кадры на Украине. Но в 41-м началась Великая Отечественная, и её с сыном в числе первых отправили в Ташкент. Туда отправляли многих в то нелёгкое время. В 42-м, когда Юрию, моему деду, исполнилось восемнадцать, он, несмотря на все старания и увещевания Марии Александровны, подался добровольцем в армию, не ожидая повестки. Юрий к тому времени с отличием окончил среднюю школу, но в свои юные годы прекрасно владел, стараниями матери, английским и французским. Это и определило, во многом, всю его дальнейшую судьбу. Деда отправили не на фронт, а на специальные курсы. Через год он стал молодым лейтенантом, овладел досконально немецким, и его, к собственному удивлению, зачислили в «Смерш»[5].
Волобуев удивлённо приподнял брови и сделал отметку в своём блокноте. Жест был замечен Орловым.
– Да, – подтвердил тот, – во время войны такие вещи случались. Сына шпиона империализма зачислили в «Смерш». Умных и смекалистых не хватало во все времена. Войну он закончил капитаном и был награждён тремя боевыми орденами. После войны некоторое время работал в ГРУ[6], а затем его отправили преподавать в Институт военных переводчиков. Марию Александровну он перевёз в Москву. Ещё работая в ГРУ, дед заочно закончил институт, тоже по специальности переводчика. Думаю, что особого труда ему это не составило. Он, кстати, перевёл на русский язык большое количество трудов зарубежных военных специалистов. Не утомились, Сергей Ильич? Если я устаю от рассказа о своей семье, то как должно быть вам слушать все эти перипетии?
– Пока сносно. Напрягаю волю в кулак и думаю об интересах страны и большого капитала, – с юмором и иронией одновременно ответил Волобуев.
– Это хорошо, что у вас присутствует чувство юмора. У нас в России без него не обойтись, – заметил Орлов.
Затем он едва уловимым жестом пригласил официанта, чей контур можно было разглядеть через стеклянную дверь, которая вела на кухню.
– Что вам можно предложить? – почтительно обратился олигарх к старшему следователю. – Они у меня замечательные вещи умеют готовить. Для обеда, в принципе, ещё рановато, поэтому как насчёт ассорти из разных канапе? Икорка, французская утиная печень, морские деликатесы…
Волобуев растерянно пожал плечами вместо того, чтобы отказаться. Есть ему совершенно не хотелось. Но Орлов невнятное поведение следователя истолковал по-своему.
– Неси, браток, ассорти, – велел он официанту. – Мне ещё кофе, гостю – чай. А, может, вам что-нибудь покрепче?
– Нет-нет, благодарю, – теперь уже моментально среагировал Сергей Ильич. – Можно попросить зелёный чай?
– Хоть розовый, уважаемый вы наш! О чём речь! Конечно, можно. Виталий, неси гостю зелёный чай. Несколько разных чайничков подготовь. Те, что мы в Китае специально покупали.
Официант Виталий понятливо кивнул головой и быстро исчез за стеклянной дверью. «Интересно, – подумал Волобуев, – сколько человек обслуживает эту яхту? Пятьдесят? Сто? Больше? Это же целая махина!».
– Ничего, если я продолжу? – вежливо поинтересовался Орлов.
– Извините, задумался! – оторвался от мыслей Волобуев. Впервые за последние сутки он увидел синеву неба и предположил, со свойственным ему оптимизмом, что волны могут пойти на убыль.
– Так вот, – бодро продолжил хозяин яхты, – ещё работая в ГРУ, дед женился на младшей дочери одного генерала, героя войны. Тот был большая шишка. Как вы легко догадываетесь, такой выгодный в те времена брак сильно помог карьере моего деда. Во многом благодаря этому в Институте военных переводчиков он дорос до высокой генеральской должности и не стал ректором только потому, что для этого нужны были ещё большие связи. Вы, Сергей Ильич, и сами это хорошо понимаете: даже для умных и образованных нужны были покровители или блат, как это когда-то называлось. Поэтому многие талантливые люди и в СССР, и в России оказывались в тупике. Нет связей – нет продвижения по жизни. У нас один в поле не воин…
Волобуев опять согласно кивнул головой.
– У деда было трое детей: сын и две дочери. Одна из дочерей была моя матушка.
Как раз в этот момент появился официант Виталий с большим подносом. Орлов замолчал.
– Михаил Анатольевич, чаёк минут через пять принесу. Ему ещё настояться надо, – говоря это, официант выставлял на стол тарелки с закусками. Всё было оформлено в виде канапе и мини-бутербродов.
Олигарх ничего не ответил, лишь одобрительно кивнул головой. Официант быстро исчез за дверью. Волобуев отметил про себя, что, судя по всему, весь персонал был вышколен. Практически моментально, оторвав взгляд от собеседника, и будучи ранее отвлечённым мыслями об официанте, Волобуев осознал, что яхта находилась в движении. Он так и не понял, когда они тронулись и что этому предшествовало, но берег медленно плыл мимо них. Или это они плыли мимо него. За спиной Орлова было бескрайнее море, поэтому Волобуев вовремя не сообразил. Он не слышал шума машинного отделения, и никто не метался по палубе. Было странное чувство одиночества в бескрайних тёмных водах Чёрного моря. «А что, если на всём этом корабле в живых лишь три человека – Орлов, я и этот официант Виталий?» – подумалось старшему следователю.
– Как-то тихо мы плывём, – лишь робко заметил он вслух.
Орлов встрепенулся, словно эта короткая фраза, нечаянно обронённая его гостем, открыла ему глаза на что-то очевидное.
– Вы себя неуютно чувствуете на яхте? – деликатно поинтересовался он, показывая искренний интерес и беспокойство по поводу гостя.
Волобуеву стало страшно неловко, как будто бы его уличили в чём-то постыдном.
– Нет, что вы! – он сразу попытался успокоить Орлова. – Это я так, к слову… Не буду лгать – море и я понятия диаметрально противоположные. Я имею в виду любые плавучие средства. Но, как ни странно, здесь я чувствую себя довольно уютно и комфортно.
Сергей Ильич врал нагло, но очень убедительно. Возможно, ему и было сейчас комфортно, но далеко не уютно.
– Простите, ради бога, я как-то об этом не подумал, – извинился обескураженный Орлов. – Какая досадная оплошность с моей стороны! Просить вас о величайшем одолжении, а, при этом, проявить такую бестактность…Мне даже в голову не могло такое прийти. Знаете, мне всегда казалось, что всех русских безумно привлекает море. Тогда поедем куда-нибудь на большую землю? Ко мне на дачу?
– Нет, нет, нет! решительно запротестовал Волобуев. – Только не сейчас! А канапе? А чай? А ваша царско-большевистская история? В данный момент ни за что не соглашусь на смену декораций!
На самом деле старшему следователю от одной лишь мысли о том, что опять придётся пересаживаться на небольшой катер и трястись по волнам, пришлось не по себе. Внутри он ругал себя за неосторожно брошенную фразу и с удивлением отмечал проницательность хозяина яхты. Для пущей убедительности он протянул руку, схватил с ближайшего блюда первый попавшийся бутербродик и проглотил его, практически не жуя. При этом даже не смог определить, что именно он только что съел.
Орлов, наблюдавший за этой живой сценой, только улыбнулся. Из деликатности он не стал больше настаивать.
– Итак, – продолжил он, – как я уже вам сказал, у деда было трое детей. Сын его, мой дядя, стал лётчиком-испытателем и погиб во время тренировочного полёта. Он, как мне рассказывали, был молодым, но уже первоклассным пилотом. Помогал создавать новые истребители. Бесстрашная голова, рискованный был. Небо любил, как и его дед. Два ордена имел. Семьёй он не успел обзавестись. Мамина сестра, Ирина, стала музыкантом. Она играла на пианино, скрипке, флейте. Преподавала в консерватории. Умерла пять лет назад. Рак лёгких: курила, как сапожник.
Орлов остановил повествование. С задумчивым видом взял с блюда канапе с паштетом и медленно стал жевать, улыбаясь при этом.
– Она меня очень любила. Говорила, что у меня был музыкальный талант, что я мог бы покорять публику на всех континентах, что я не имел права разбрасываться тем, чего другим просто не было дано… Да, я долго по её наставлению занимался фортепьяно, но потом всё это бросил. У тёти Иры всегда было уйма поклонников, но ни семьёй, ни детьми она так и не обзавелась, как и её брат. Наверное, потому и взяла шефство надо мной.
К столу бесшумно подошёл официант Виталий с подносом, на котором уместились пять заварных чайничков. Судя по всему, весили они немало, потому что при всём старании Виталия Волобуев смог отличить характерный звук тяжёлых предметов, когда они один за другим были составлены на стол. Возле каждого мужчины он поставил по несколько маленьких чашек в китайском стиле.
– В этих трёх, – объяснил он Волобуеву, указывая ладонью, – зелёный чай. Очень рекомендую вот этот, который ближе к вам. Молочный улун, специальный сбор, из Тайваня. На всякий случай вот сахар.
Волобуев отрицательно закачал головой.
– Нет, спасибо, я зелёный чай пью без сахара. Иначе весь аромат пропадёт. Точнее, вкус.
– Согласен, Сергей Ильич! Виталий, уноси сахар, чтобы нам глаза не мозолил. У нас и так стол теперь весь заставлен.
Официант понятливо кивнул головой, составил сахар обратно на поднос и исчез в мгновение ока. Волобуев налил себе из тяжёлого чугунного чайника с металлическим узором молочный улун. Орлов налил себе из другого, который стоял рядом с ним. Выдержав короткую паузу, он продолжил.
– А вот моя матушка, наоборот, быстро выскочила замуж и родила меня. Также быстро она и развелась. Отец мой был журналистом, звёзд с неба не хватал. Они познакомились в Университете. Мама занималась на филологическом, потом преподавала языки. Это у нас что-то вроде семейного. Отец вначале работал в одной молодёжной газете. Потом, после развода, уехал на Дальний Восток. Видел я его редко, хотя алименты он присылал исправно. Умер он рано, от цирроза печени. Просто спился. Сами знаете, как это бывает с русскими. Жил бедно: ни кола, ни двора. Маме всю жизнь помогал дед. И квартиру нам тоже справил он. Как никак, своя квартира в центре Москвы всегда была в цене.
Неожиданно Орлов посмотрел на часы.
– Вы, наверное, устали от моей болтовни и думаете: ну на кой чёрт он мне всё это рассказывает? Так вот, сейчас я могу, как говорится, приподнять занавес. Помните письмо, которое я упомянул в самом начале?
– Переданное на заводе? – уточнил Сергей Ильич.
– Именно! В нашей семье, из поколения в поколение, шёпотом, во все годы взлёта и падения социализма, вспоминали это письмо. Брат прадеда написал тому в Россию, точнее, уже в СССР, чтобы он попытался вырваться в Париж или в любую другую европейскую страну. Причин он называл три. Во-первых, удрать от большевиков. Во-вторых, объединить семью. А, в-третьих, он написал брату, что очень богат и что они всё поделят поровну. Обещал поддержку, бизнес, жильё…
– Письмо, естественно, не сохранилось?
Орлов иронично усмехнулся.
– Вы забыли, Сергей Ильич, что тогда было? Во время всех этих сталинских чисток? В те годы всюду искали врагов. А в нашем случае и искать не надо было. Письмо из-за границы… Они ведь просто бумаги искали. Прадед мой, Иван Ипполитович, сразу смекнул, ещё в первый вечер, как только получил письмо, чем это ему может аукнуться. Как в воду глядел… Письмо сожгли, но текст прабабка моя и дед тщательно запомнили. Вот так из поколения в поколение и передавали, как будто народную мудрость.
– А как получилось, что письмо передали через немцев? – Волобуев пока вообще не понимал, о чём шла речь, но, на всякий случай, решил задать этот вопрос, который у него родился в голове.
– Брат моего прадеда поскитался по Европе, прежде чем осел в Париже. Я уже говорил, что он несколько лет прожил в Берлине. Судя по всему, там и обрёл нужные связи и контакты.
Волобуев прищурился, задумавшись о чём-то. Затем что-то быстро пометил у себя в блокноте. После этого взял наугад канапе, даже не посмотрев толком, с чем оно, и быстро отправил себе в рот. Ему, почему-то, было неудобно, что стол накрыли, практически только ради него, а он почти ни к чему не притронулся. Это идиотское ощущение, когда все вокруг что-то делают ради тебя, а ты просто обязан быть деликатным и благодарным, не раз и не два приносило ему лёгкие неприятности, как правило, морального плана.
Орлов молчал, ожидая реакции Сергея Ильича на ответ.
– Понятно, – сказал тот, проглатывая впопыхах остатки канапе. – Письмо не сохранилось. Но, по-видимому, оно является ключом ко всей этой истории, которую я пока ещё не услышал, не правда ли?
И хотя сказано это было практически безразличным тоном, хозяин яхты насторожился.
– Как говорится, продолжение следует.
Следователь улыбнулся. Затем посмотрел в большое панорамное окно. Вокруг носились чайки, привлекаемые огромной белой махиной, медленно рассекавшей море. Потоки солнечного света создавали особый блеск на море, которое перестало быть грозным и суровым. Удивляла тишина, почти безмолвие, нарушавшееся лишь едва слышимым криком птиц – стёкла каюты практически не пропускали внешний шум.
– Что ж, – встрепенулся старший следователь, возвращаясь мыслями к разговору, – давайте будем потихонечку подбираться к кульминации.
Орлов улыбнулся.
– Да, Сергей Ильич, я представляю, каким занудным кажется вам мой рассказ после всех отложенных в сторону дел в московском кабинете. Мне тяжело описать степень моей признательности вам за то, что вы прилетели в Сочи и слушает этот, на первый взгляд, бред.
Волобуев кашлянул.
– Ну, зачем так резко. У меня и в мыслях подобного не было. Работа есть работа, и если в верхах поручают прилететь и выслушать, то значит, что на это имеется некий резон. У нас, ведь, в СКР, люди хорошо понимают смысл служебной дисциплины. Сказано – сделано. Это только болтуны и крикуны всякие байки про нас придумывают, а мы хорошо знаем – без порядка и дисциплины Следственный комитет существовать не может. Мы – винтики этой государственной машины, а машина эта имеет свой поступательный ход и отлаженный механизм.
– Попахивает безысходностью и злоупотреблением властью.
– Я бы это мягко назвал волюнтаризмом, – поправил Волобуев. – Если мы уж начинаем называть вещи своими именами…
Ему не пришлось смущаться, говоря правду открытым текстом. Он уважал службу, но терпеть не мог всяких закулисных просьб и прихотей начальства.
– Сергей Ильич, возвращаюсь к рассказу, а то ещё, не дай бог, окончательно выведу вас из терпения… – поспешил успокоить следователя Орлов. – В конце того письма, которое немцы передали прадеду, была одна загадочная фраза: «Если ты не сможешь, по каким-то причинам, приехать сейчас, то знай: даже если меня уже не будет в живых, твоё не пропадёт со мной ни на небесах, ни на земле праведной». Как вы понимаете, цитирую я по памяти так, как было запомнено моими родственниками.
Услышав эту цитату, первым желанием Волобуева было встать и уйти. Он уже с трудом заставлял себя слушать семейные истории Орлова. К тому же, уходить было некуда – всюду вокруг были лишь воды Чёрного моря. Да и позволить себе подобный демарш следователь не мог – проклятое чувство долга и служебной ответственности.
– И что же значит эта фраза? – всё, что он позволил себе спросить.
– Это была литературная прелюдия, Сергей Ильич. Метафора. Мой прадед и его брат были весьма образованными людьми, много читали и интересовались большим спектром вещей, модных в то время, особенно техникой. Так вот, в письме этом, после этой фразы, вперемежку с разным текстом, проскользнули некоторые цитаты из Шекспира.
Глаза Волобуева широко раскрылись от удивления. Теперь он вообще ничего не понимал по поводу того, чего от него хотели. Заняться этой головоломкой по разгадке какого-то бредового письма чуть ли не столетней давности?
В руках хозяина яхты появился небольшой листок, который всё это время лежал на столе рядом с ним.



