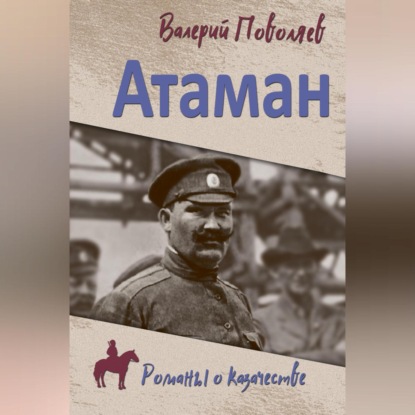Полная версия
Кондрат Булавин
– Руки у нас коротки, – сказал старик.
– Ну, насчет рук молчи, дед, – горячо проговорил Мишка. – На Дону народ забурунный. Чуть чего не так, такое могут заварить, что и не расхлебаешь…
Табунщики несколько минут молчали, жуя сухари.
– Дед, – встряхнулся Сазонов, – ты бы рассказал, как ты попал на Дон, а?..
Старик, прожевав сухарь и запив водой, проговорил:
– Да как попадают-то сюда – дело просто… Убег от своего боярина, вот те и все… Дело-то это было дюже давно, почитай лет тридцать с лишком тому назад… Жил я тогда под Воронежем, в деревне Садовке, занимался крестьянским делом, как и все наши мужики… Боярин у нас был Лука Матвеевич Гринин, терпимый еще человек… Правда, натужно мы на него работали, но все же кое-как терпели, кормились и мы… Худо ль, хорошо ль, но жил я у себя в деревне не хуже других… Была у меня, братцы мои, молодая жена… Да такая это она у меня пригожая да красивая была – кажись, в деревне-то нашей краше ее и не было другой. Марфушей она, дай ей бог царствие небесное, прозывалась… Жили мы с ней ладно, любили друг дружку, двоих ребятенков с ней прижили… Так, может, и прожили б в любви и согласии до самого гроба, да случилось тут, братцы мои, такое дело на наш грех: приехал к нашему боярину на побывку сын его – Михайло. Такой это красавец собой… Усы черные кольцом вьются, борода кучерявая, на груди лопатой лежит… Служил он, вишь ты, где-то начальным человеком в стрелецком полку… А дебошир – и не приведи бог какой. Как бывало напьется пьяным, так и пошел по деревне за девками гонять. Пымает какую – иссильничает… Проходу никому не было. Девки от него бегали в ухоронку в лес… Вот однова, братцы мои, ходит наш староста по деревне, кличет баб да девок идти в боярский сад, дорожки, стало быть, прочищать… Зашел староста и к нам в избу за Марфой… Я как все едино сердцем чуял, что ежели Марфа пойдет в боярский сад, так быть греху… Вначале я не хотел пущать ее, но староста пригрозил кнутом… Что поделаешь?.. Пришлось ей пойтить… Работало в саду тогда много наших деревенских баб и девок. Вышел из хоромов этот Михайло, сын-то боярский, да на баб маслеными глазками, как кот, поглядывает, усы облизывает… Приглянулась, видать, ему моя Марфуша, поманил ее. «Пойди, говорит, помой у меня в светелке полы, чтобы прохладность была». Пошла моя баба, рази ж можно боярского приказания ослушаться… А этот кобель-то, Михайло, покрутился-покрутился, и как только Марфа-то вошла в хоромы, так сейчас же побег туда… «Ну, – говорят бабы, – попала и Марфушка в лапы этого злодея…» Работают они, а сами поглядывают, что будет дальше… И слышат они, как в боярских хоромах кто-то дурным голосом закричал. Испужались бабы, закрестились… Смотрят, а на втором-то этаже оконце распахнулось, в той, стало быть, светелке, где этот Михайло жил, и оттель моя Марфа высунулась… «Бабоньки, – кричит она, – погибель моя пришла!» Перекрестилась она, да как сиганет. А ведь высоко все же оттель до земли-то… Да оно, может, и все бы благополучно обошлось, ежели б камни под окном не лежали… Моя Марфа-то прямо на них и упала… Бабы кинулись к ней, а она в беспамятстве… Принесли они ее ко мне чуть живую… Позвал я знахарку, осмотрела она мою женку и покачала головой, говорит – дюже плоха… Ребра, вишь, она себе попереломала. Ну и что ж, – вздохнул старик. – Недельки две промучилась и померла… Такая меня тоска опосля завзяла, места себе нигде не могу найти… Хожу сам не свой, и думки у меня на уме, как бы Михайле-то этому, душегубцу, отомщенье сделать за погибель моей Марфы. И вот надумал я… Наточил я нож, позвал свою сестру и говорю ей: ну, мол, сестрица, ежли со мною что приключится, то, мол, Христом Богом прошу, не покидай моих детишек, вырасти их в христианском духе, нехай на отца своего не имеют обиду, что пошел на погибель за их мать… Стал я подслеживать молодого боярина. И однова я увидал его, как пошел он в лес… Подкрался я сзади, да и пырнул ножом ему в спину… Упал он, закричал, а я давай бог ноги, убег… Вот так я и попал на Дон…
– Стало быть, ты его убил? – сказал Васька.
– А кто ж его знает, – уклончиво ответил старик. – Я ж не осматривал его… Может, и умер он, а может, и ожил, антихрист…
– С той поры в деревне-то своей, стало быть, не бывал? – спросил Мишка.
– Нет, – вздохнул старик.
– И про детей своих ничего не знаешь?
– А как же я могу узнать-то? – развел руками дед Никанор. – Все вот собираюсь на старости лет надеть на себя суму да пойти по миру, может пробрался б на родину и увидал бы своих детей, ежли они живы…
– Ну и пошел бы.
– Просился я у своего хозяина – не пущает… Говорит: «Вот как введем тебя в казаки, так-де вольным казаком туда поедешь, никто, говорит, тебя тогда не тронет…» Вот жду, когда казаком стану, – горько усмехнулся старик. – Да брешет он, Илья-то. Не введет он в казаки. Нет ему антиресу вводить меня.
– Да-а-а, – вздохнул Мишка. – Зерщиков себе на уме, он знает, как надобно с вашим братом управляться. Вот зараз приехали царские сыщики на Дон беглых холопов разыскивать, так Илья наказал мне за вами пуще глаза смотреть, велел вас в ухоронке держать. Навроде сурков, чтоб в балке сидели да нос свой не казали… Потому как разе ж Илье Григорьевичу охота такой даровой силы, как вы, лишаться? Какая ему корысть вас на Русь отдавать? Кто ж у него тогда будет работать? Так-то вот… Ну, братцы, хватит! Повечеряли. Идите к лошадям.
Сазонов встал и, заложив руки за голову, сладко потянулся.
– Ох ты! – вдруг вскрикнул он изумленно. – Ребята, беги к лошадям! Сам едет!
Табунщики, торопливо попрятав сухари в сумки, бросились было к лошадям, но Илья Зерщиков, подъезжая к ним, еще издали сурово закричал:
– Куда побегли? А ну, вертайся!
Табунщики, виновато опустив головы, вернулись. Зерщиков подъехал хмурый, злой.
– Ты что же, Мишка, так это мой приказ-то выполняешь? – гневно посмотрел он на Сазонова. – Я ж тебе велел их, – кивнул он на табунщиков, – держать в ухоронке…
– Повечерять пришли, Илья Григорьевич, – смущенно проговорил Мишка. – Все времечко они сидели в балке, я один за табуном смотрел, измучился. Пришли вот, сухарей погрызли… Харчи на исходе…
Зерщиков соскочил с коня.
– Чего ж сухари-то едите? – сказал он. – Глядите, какие тут богатствия-то! – махнул он на озеро. – Разве ж я вам не велю всем этим пользоваться? Наловили б рыбы, настреляли б дичи, наварили б ухи али нажарили уток, а вы, лентяи, сухари жрете, а хозяин вам виноват, не кормит…
– Илья Григорьевич, – робко возразил Мишка, – так у нас же сетей нет. Давно тебя просим привезти нам сеть – рыбу ловить. А уток тож пальцем не настреляешь. Ружьишки без пороху. Привез порох ты нам али нет?
– Ух ты! – спохватился Илья. – Забыл ведь, братцы! Ну, на тот раз как приеду, привезу… Привезу обязательно…
– Гляди, Илья Григорьевич, – угрюмо проговорил Мишка, – не обижайся, ежели калмыки налетят. Отбиваться у нас нечем.
– Завтра пришлю, завтра, – пообещал Илья. – И сетку п-ришлю…
– Брешешь, небось, скупой черт! – тихо пробормотал Мишка, думая, что Зерщиков не услышит его, но у того слух был острый.
– Что ты сказал? – гневно посмотрел он на Мишку.
Мишка дерзко посмотрел на Зерщикова.
– Обманешь, говорю, потому как ты скупой дюже.
– Да как ты посмел со мною говорить так, гультяйская твоя м-орда?
– Ты не дюже, Илья Григорьевич, ори-то, – дрожащим от обиды голосом сказал Мишка. – Я ведь тебе не какой-нибудь холоп, а такой же вольный, прирожденный казак, как и ты… Ты думаешь, ежели я у тебя в услужении нахожусь, так на меня и орать можно? Не боюсь я тебя…
– Ха-ха! – озлобленно рассмеялся Зерщиков. – Казак он вольный… Дурак ты, а не казак! Рази ж у нас с тобой может быть равность? Ведь ты ж у меня работаешь, и что я тебе скажу, то ты и сделаешь. Кормлю тебя, гультяя… Зараз вот возьму и прогоню тебя, так куда ты денешься, а? Уйдешь, а потом опять же ко мне придешь, будешь в ногах ползать и просить, чтоб взял на работу, потому как тебе жрать нечего будет… Ну, правду я говорю али нет?
Мишка насупленно молчал.
– Ты уж прикрути хвост-то, – миролюбиво проговорил Илья. – Говори спасибо, что я не сердитый и зла на тебя не имею, а то зараз же могу прогнать, а на твое место многие найдутся. Так-то вот… А вы что рты поразинули? – сердито накинулся он на табунщиков, прислушивавшихся к перебранке Мишки с хозяином. – Ай вам дела нету?
– Да ты же нас сам, хозяин, вернул, – сказал дед Никанор.
– Вернул, – проворчал Илья. – Слухайте, вот что я вам скажу. Вы вот, небось, на хозяина своего сердце имеете, зло содержите, а того в голову взять не можете, что хозяин-то ваш за вас же печется. Вот зараз приехали к нам, на Дон, стольники царские, чтоб перепись учинить всем беглецам да отправить их всех в кандалах на Русь, к вашим боярам. Вот я за вас и постоял. И отстоял. Уехали теперь те стольники царские в Москву ни с чем. А ежели б я за вас не постоял, так быть бы беде. Забрали б вас, батогов всыпали да клейма на лбах повыжгли, а кое-кому, навроде деда Никанора, – покосился он на старика, – так и язык повырезали б… Вот оно что. А теперь покель живите покойно, без опаски, лучше берегите мое добро да спасибо говорите, что заступился за вас…
– Спасет тебя Христос, хозяин! – поклонились поясно табунщики Зерщикову. – Спасибо, что упас от погибели.
– То-то же, – удовлетворенно усмехнулся Илья. – За мной вы никогда не пропадете. Завсегда за вас постою… Ну, идите теперь к коням.
Старый табунщик, дед Никанор, идя с Васькой к табуну, ехидно шептал:
– Ишь ты, упас он, старая лиса, а из каких таких умыслов?.. Да чтоб мы покорнее работали ему…
Глава VII
Леса дремучие, огромные и загадочные, как морские воды, простирались, казалось, до бесконечности по берегам реки Хопра, тая в острых запахах прели вечный холодный полумрак.
И в разбойных лесах, и в прорезающей их извилистой серебряной ленте реки, и в голубых покойных чашах озер была кипучая, неугомонная жизнь. В густых зарослях бродили медведи, олени, лисицы, шакалы. По лугам паслись косяки тарпанов, сайгаков[31]. По ветвям сновали белки. В камышах, у озер, копали ил дикие кабаны, пугая лебедей и бакланов.
В дуплах столетних деревьев трудолюбиво наливали в соты ароматный мед пчелы. В затхлой прели прошлогодней листвы рождалось множество сморчков, груздей. На полянах – изобилие разных ягод.
Природа здесь щедро давала человеку свои блага, и он умел пользоваться ими.
На крутом изгибе Хопра, на высоком берегу, обосновался небольшой Пристанский городок. Жители его – донские казаки – в свободное от походов время занимались охотой и рыбной ловлей.
На окраине городка Митька Туляй, беглый холоп из вотчины грибановского помещика Лопухина, построил себе неприхотливый курень и жил вольным казаком.
Судьба Митьки сложилась незадачливо. Он родился в селе Грибановке, Тамбовской губернии, в семье крепостного крестьянина Федора Туляя. Когда он был еще совсем маленьким парнишкой, в их селе вспыхнула какая-то жестокая эпидемия. Много тогда умерло в селе людей. Умерли и родители маленького Митьки. Мальчишка остался круглым сиротой. Вначале его из жалости кормило все село по очереди, а потом, когда он подрос, староста пристроил его подпаском к пастуху Луке.
Несколько лет он пас коров, пока не вырос и не возмужал. Однажды помещик Лопухин, объезжая поля, встретился с Митькой и, прельстившись атлетической фигурой парня, взял его к себе конюхом.
Митьке понравились новые обязанности, и он с ними справлялся хорошо – старательно холил господских лошадей, умело объезжал неуков. Лопухин похваливал своего нового конюха. Так, быть может, Митька и прожил бы свой век на господской конюшне, но случай резко изменил его судьбу.
Как-то Митька готовился объезжать чистокровного жеребца-неука, выведенного на господской конюшне. Жеребец был великолепный, породистый, и Лопухин, понимавший толк в лошадях, души в нем не чаял. Митька должен был объезжать лошадь под присмотром самого барина.
Как только Митька взобрался на спину жеребца, лошадь, как бешеная, сорвалась с места и, с налитыми кровью глазами, запрыгала, закрутилась, норовя сбросить с себя седока. Но Митьке не впервые было обучать лошадей. Он словно прирос к спине норовистой лошади. Чего только не делал жеребец, как только не ухищрялся скинуть Митьку, но все было тщетно. Митька крепко сидел, на жеребце, туго натянув поводья.
– Молодец, Митька! Молодец! – издали кричал помещик, наблюдая за Туляем. – Держись крепче! Держись!..
Но, видно, так уж было на роду написано Митьке, – случилась беда. Жеребец, не слушаясь поводьев, высоко задрав оскаленную морду, ничего не видя, ошалело помчался по полю. Митька с ужасом убедился, что жеребец скакал прямо к канаве. Сколько ни крутил Туляй морду лошади, стараясь повернуть ее от канавы, ничто не помогало. Лошадь упрямо мчалась на нее. Митька отпустил поводья, надеясь, что жеребец все-таки заметит препятствие, но было уже поздно, лошадь грохнулась в канаву. Митька, перекувырнувшись через голову, отлетел в сторону. Он так расшибся, что не сразу смог встать. Все же, стеная от боли, он с трудом поднялся и, пошатываясь, подошел к жеребцу.
Около жеребца уже крутился помещик Лопухин. Он силился поднять лошадь, но она лишь жалобно ржала, а подняться не могла – у нее был сломан позвоночник.
Когда помещик понял это, он от ярости заплакал.
– Ты, ты, подлец, виноват! – с визгом набросился он на едва стоявшего на ногах Митьку и жестоко избил его плетью.
Но этим Лопухин не ограничился. Вечером, когда жерёбец издох, Митьку в бесчувственном состоянии отнесли на конюшню и выпороли. Две недели боролся со смертью Митька. Могучий организм победил.
С тех пор Митька затаил страшную, непрощающую обиду на помещика. Он стал выискивать случай отомстить Лопухину.
Когда Митька поправился, он однажды ночью поджег господский дом, а потом бежал к казакам на Хопер и там прижился.
Теперь он оброс окладистой русой бородой. Ходил в новых липовых лаптях и сером мужицком зипуне.
Он приобрел лук, наделал стрел и, как все казаки, ходил стрелять зверей, птиц, ловил рыбу. Охота да рыбная ловля – вот и весь источник существования казака. На Дону запрещалось казакам заниматься земледелием. Цари платили донскому казачеству жалованье – деньгами, хлебом, сукном, порохом, вином и прочим. Но жалованья было мало, да и то, что получалось, большей частью оседало в карманах домовитых казаков. Маломощным казакам – гультяям, населявшим верховья Дона, почти ничего не доставалось.
Надо было изыскивать дополнительные источники к существованию.
Гультяи состояли почти исключительно из беглых холопов и крестьян центральных районов Руси. Это были люди, с детства привыкшие к земледельческому труду. Их тянула к себе земля. Многие из них, попав на Дон и зачислившись в казаки, пробовали в потайных местах украдкой пахать сохой землю, засевать небольшие участки. Но это было рискованное дело. Памятны были казни таких своевольцев. В 1702 году в Котовском городке за ослушание повесили трех гультяев, – они попробовали было тайно посеять хлеб. Но, несмотря на преследования, даже казни, душу русского хлебороба трудно было переломить. Находились смельчаки, которые все же сеяли хлеб.
Первые дни своего пребывания в городке Митька жил в восторженном состоянии. Все для него было ново, все его радовало и развлекало. Особенно приятно было сознавать, что он – свободный человек, независимый от помещика. Его увлекала охота, дававшая возможность жить, он ловил рыбу. Часто, лежа на топчане в своем курене, он посмеивался:
– Не сеем и не жнем, а весело живем… Оттого казак и гладок, что поел да на бок.
Но это продолжалось недолго. Радость его сменилась равнодушием ко всему. Все вокруг утратило свою привлекательность, стало обычным, будничным, как будто все, что он видел, было ему уже давно знакомо.
На охоту он стал ходить уже не с тем радостным чувством, как первое время, – ходил лишь для того, чтобы прокормить себя.
Как-то незаметно в сердце прокралась тоска. Митька стал чувствовать, что ему чего-то не хватает. Чувство это было неотвязное, неудовлетворенное, оно преследовало его повсюду.
Его крестьянская душа затосковала по земле, по ее тленному, влажному запаху. В воображении Митьки рисовались заманчивые картины волнующихся от ветра тучных ржаных нив.
Он тяжко вздыхал:
– Эх, заимел бы лошаденку, смастерил бы соху да и паханул бы. Эх, и паханул бы, ажно земля заскрипела б!..
А вскоре Митька затосковал и по другой причине. Даже во сне смутные желания стали беспокоить его.
Встревоженный, разгоряченный, ворочался он на своем жестком топчане, просыпался в поту и не мог уже больше заснуть. Митька мучительно ждал утра, проклиная нудную, медлительную ночь. Утро его успокаивало.
Митька решил, что без жены ему не обойтись. Но найти жену было не легко. Казаки жили суровой жизнью воинов и охотников, вечно были в походах, набегах или в степи и в лесу, на звериных тропах. Ежеминутно подвергались они опасности от сабли и стрелы кочевника или от клыков хищного зверя. В казачьем товариществе существовал обычай не связывать себя женитьбой. Казаку жена – помеха. Правда, сейчас этого обычая уже не придерживались строго, но казаки с трудом разыскивали себе жен. Женщин на окраинах государства – на Диком поле встречалось мало.
И оттого, что так трудно было найти жену, у Митьки появилось непреодолимое желание во что бы то ни стало иметь ее. Однако поиски ни к чему не приводили. Митька страдал, злился. Одиночество угнетало его.
«Хоть слепую бы какую отыскать, – огорчался он, – все б живой человек в хате был…»
Но однажды случай сразу изменил всю его жизнь.
Как-то на майдане гомонил станичный круг. Казаки разбирали тяжебные дела: оскорбления и обиды, нанесенные друг другу, несоблюдение постов, ослушание и тому подобной.
Писаных законов у казаков не было, и круг судил по стародавним казачьим обычаям.
Дел накопилось много. Круг уже примирил нескольких казаков, ссорившихся между собой, присудил двум казакам по пятнадцати плетей за то, что они в пятницу ели ирян[32]. А сейчас разбиралось довольно сложное дело пожилого казака Чикомасова. Оно заключалось в том, что, когда казаки собирались в Азовский поход, Чикомасов попросил у соседа, оставшегося дома, на время похода старую саблю. В бою с турками Чикомасов снял с убитого янычара ятаган, а старенькую саблю соседа бросил. Теперь, спустя несколько лет, сосед вдруг вздумал требовать свою саблю. Чикомасов не мог ее вернуть, а ятаган ему жалко было отдавать. Сосед пожаловался атаману, и теперь круг разбирал это дело.
Все было невыносимо скучно, томительно. Отойдя в сторону, молодые казаки играли в зернь[33], пили бражный мед.
Есаул провозглашал:
– А ну, послухай, честная станица, послухай атамана!
Атаман властно кричал:
– По нашему уразумению, атаманы-молодцы, надо Чикомасову всыпать десять плетей, чтобы не утаивал чужое добро, а ятаган отдал бы хозяину взамен сабли.
– В добрый час! – охотно согласились казаки.
Те казаки, которые занимались игрой в зернь, не слышали решения круга.
Есаул крикнул им:
– А вы, атаманы-молодцы, как разумеете?
– В добрый час! В добрый час! – торопливо откликнулись те, толком не поняв даже, о чем их спрашивают.
– В добрый час! – звонко крикнул и молодой казак – сын Чикомасова, бросая зернь.
– Ах ты, сукин сын! – ахнул от неожиданности отец. – Ты, стало быть, дьяволина, тож хочешь, чтобы твоего отца стебали плетями?
Сын изумленными глазами посмотрел на отца и, поняв свою оплошность, вскочил.
– Нет!.. Нет!.. – закричал он. – Я супротив того…
Казаки захохотали:
– Поздно, брат, спохватился… Голос ты свой уже подал. А ну, бери плеть, стебай отца.
Расталкивая толпу, в круг пробрался молодой казак в праздничном шелковом кафтане, ведя за руку смущающуюся разнаряженную казачку. Митька во время обсуждения дел в кругу, рассеянно прислушиваясь к спорящим голосам, покуривал трубку. При виде казака и казачки, проталкивавшихся в круг, он с любопытством придвинулся ближе.
Казак бросил наземь шапку, истово закрестился на восток, потом степенно поклонился кругу.
– Ты, Авдотья, будь мне жена, – сказал он казачке.
Казачка повалилась ему в ноги.
– А ты, Мотька, будь мне муж.
Казак поднял казачку и крепко поцеловал. Митька подавил в себе вздох.
– Будь по-вашему, – промолвил атаман и, подойдя к жениху и невесте, расцеловал их. – Будьте мужем и женой.
– В добрый час! – дружно гаркнул казачий круг.
Все полезли целоваться с молодыми. Митька завистливыми глазами смотрел на чернобровую казачку.
«Вот ведь, – думал он сокрушенно, – людям счастье, à мне, прям, хоть сгибай, бог талана не дает».
Он собрался было уходить домой, злой и раздраженный на свою незадачливую жизнь, как вдруг услышал вдали пронзительные вопли. Какой-то казак, пошатываясь и спотыкаясь, тащил по улице женщину. Она голосила на весь городок, цепляясь за кафтан казака и упираясь.
На кругу стали прислушиваться.
– Никак Сережка Воробьев, – хихикнул молодой парень.
– Он и есть, – подтвердил рябой казак.
– Это он свою турячку волокет, – засмеялся парень. – Должно, попьяну не мила стала.
Воробьев, маленький казачок, курносый, с рыжеватой бородкой, подтащил жену к кругу, заломил ухарски шапчонку на затылок и, откинув ногу, вызывающе хрипло крикнул:
– А ну, атаманы-молодцы, налетай кто хошь! Не люба мне стала… Ежели есть желающие – бери, владей, только магарыч добрый ставь!..
Митька пригляделся к плачущей женщине, сидевшей на корточках на земле, уткнувшись лицом в колени. Растолкав казаков, он рванулся к ней и прикрыл полой ветхого зипуна.
– Будь мне женой! – сказал он взволнованно и неуверенно.
– В добрый час!.. В добрый час, Митька! – весело откликнулись казаки.
– Магарыч, Митька, ставь, – хлопнул его кто-то по спине. – Видишь, какую жену тебе дали.
– Поставлю, – дрожащим от волнения голосом сказал Митька. – Ей-богу, поставлю!
Лицо его засияло в блаженной улыбке. Вот оно, счастье-то!
Вздрагивая от рыданий, турчанка продолжала сидеть на земле не шевелясь.
Митька мягко сказал ей:
– Вставай, голубица, пойдем. Теперь навроде я твой муж… Круг казачий поженил нас.
Таков уж был суровый казачий закон. Круг волен был развести с женой, круг мог и женить.
– Пойдем, говорю, милушка, в курень, – снова ласково сказал Митька турчанке. – Моя ты теперь вовек: моя жена. Понимаешь, что я тебе говорю-то?..
Но турчанка не обращала внимания наТуляя, не шевелилась и безутешно плакала.
К ней подошел атаман Шуваев, высокий рыжебородый казак:
– Слышишь, Матрена, ай нет?.. Тебе ведь говорят… Ступай вот с ним, – указал он на Митьку. – Он теперь твой муж. Круг приговорил.
Турчанка взглянула на Туляя и, поняв наконец, что случилось, в отчаянии бросилась к Сережке Воробьеву. Схватив его руку, целуя и обливая ее слезами, она нежно взмолилась, искажая русские слова:
– Мили мой!.. Мили, моя ж любит тибя… Моя не уйдет от тибя… Нет!.. Не уйдет!.. Возьми моя домой… Возьми!..
Прижимаясь щекой к его руке, она быстро заговорила по-турецки:
– Родной мой, желанный, не гони меня от себя. Я буду любить тебя еще нежней… Всю жизнь свою буду твоей рабой… Ноги твои буду целовать… Не гони, не отдавай меня. Если отдашь этому бородатому шакалу, – со страхом взглянула она на Митьку, – я утоплюсь…
Слова жены сквозь хмель проникли в сознание Воробьева. Он осмысленно взглянул на рыдающую женщину и ужаснулся тому поступку, который совершил спьяна. Судорожно схватив турчанку, он рванулся было с ней из круга, но законы казачьи суровы, обычаи нерушимы. Казаки тесно сомкнулись вокруг отрезвевшего Сережки.
– Пустите! Так вашу… – разъяренно закричал он, расталкивая казаков и пытаясь вывести жену из образовавшегося тесного кольца. – Пьян… пьян я… По пьянке сделал… Пустите!..
Но его с турчанкой снова втолкнули на середину круга.
– Да пустите ж, дьяволы! – в бешенстве взревел Сережка и с поднятыми кулаками бросился на казаков. – Говорю ж я вам, что по пьянке сдурил… Люба мне Матрена! Люба!.. Ей-богу, люба!..
Атаман Шуваев Ерофей, опустив на его плечо тяжелую руку, сурово проговорил:
– Ты что ж, Воробьев, смеяться, что ль, вздумал над кругом? Гляди, парень, а то плохо тебе будет. Круг может тебе и батогов горячих всыпать. Дело сделано, теперь не переделаешь.
Оттолкнув Воробьева от турчанки, он потянул ее за руку и подвел к растерянному Митьке Туляю.
– Вот теперь твой муж, – сказал атаман турчанке. – Люби его и слушайся.
Матрена стояла, опустив голову, всхлипывала. Досадуя на свою слабость, Сережка Воробьев принял разудалый вид и грубо крикнул Митьке:
– Эй ты, чертоплюй, а что дашь-то за нее?.. Думаешь, мне ее жалко? Вот еще! Только ты должон уплатить.