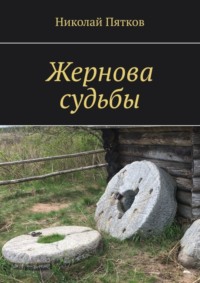Полная версия
Июньский снег. Рассказы
«Кто это, папа?», – наконец, придя в себя, закричали мы. «Ласка! – ответил не менее поражённый случившимся папа, – зверёк такой, ласка». «А что это она таскала из стожка?» «Да-а, – удручённо произнёс папа. – Натворили мы дел с этим палом, дернул меня черт! Видно, у неё здесь под стожком было гнездо с детенышами, и она спасала их из огня».
Мы поняли, что папа был огорчён и чувствовал свою вину не только в том, что стал причиной разыгравшейся трагедии в семье ласки, но и в том, что мы, его дети, оказались без всякого злого умысла причастны к произошедшему, а потому сейчас со слезами предлагали ему поискать в прогоревших к этому времени и превратившихся в ломких, ещё пышущих жаром зольных остатках стожка возможно живых детенышей отважной и несчастной ласки. Но папа понимал, что отчаянные попытки ласки до последнего мгновения лезть в огонь говорили о том, что ей не удалось спасти из адского пекла всех своих детенышей и они, без сомнения, погибли. «Это моя вина, – говорил он, – я сделал промашку, недосмотрел. Вот, будет всем нам урок: на охоте, на рыбалке и в лесу, к сожалению, случается всякое и поэтому всегда нужно быть осторожными и с оружием, и с огнём, и с водой, и с уважением и любовью относиться ко всему живому». При этом он отошёл в сторону, закурил свой «Беломор» – он много курил, но особенно, когда у него были какие-нибудь неприятности.
Потом сказал, что надо бы как следует залить все места, где ещё что-то дымится, чтобы снова не разгорелось. За корневище берёзы, куда исчезла ласка со своими спасенными детёнышами, папа велел не ходить, чтобы больше не беспокоить и так пострадавшее ласкино семейство. «Она построит себе новый дом?» – спрашивали мы. «Конечно, – успокаивал нас папа, – и всё у неё будет хорошо, а на следующий год она принесёт новый приплод». Мы, вздыхая, таскали котелком воду из ближайшего болотца, тщательно проливая остатки тлеющего сена и дымки на поляне. А затем, собрав пожитки, пошли дальше, переживая за разорение гнезда ласки и, одновременно, восхищаясь её готовностью пожертвовать жизнью ради своих детей. Папу мы не винили, скорее, сами чувствовали себя виноватыми, а в правоте его слов об отношении ко всему живому вскоре нам пришлось убедиться, и в этот раз на моём примере.
Мы шли дальше и постепенно тяжкие мысли о пострадавшей ласке и ее семействе покидали нас, да и было отчего, поскольку куда ни бросишь взгляд, весна брала своё и радовала свежими смолистыми запахами высоких сосен, постепенно сменявших засилье лиственных деревьев, первыми весенними цветами и словно вымытым в чистой реке голубым небом с редкими белыми кучевыми облачками, предвестниками уже близкого лета. В ямах и затенённых местах ещё можно было увидеть остатки пористого похожего на пемзу сероватого снега. Из попадавшихся на нашем пути лесных болотец и водоёмов с талой водой, поросших по дну изумрудной зеленью, с тревожным кряканьем то и дело поднимались, заметив нас, уединившиеся парочки селезней и уток. Времени от времени мы останавливались, прятались под зазеленевшими кустами и, соревнуясь друг с другом в искусстве подманивания, до изнеможения дули в пластмассовый манок. Иногда селезни попадались на обман, возвращались, в нетерпении барражировали кругами над верхушками деревьев, покрякивая в ответ и высматривая, где же она, которая так призывно зовёт его. Папа больше любовался этой незабываемой весенней картиной утверждения жизни, чем стрелял, но, если стрелял, то, по-моему, он, отличный стрелок, намеренно делал промахи. Мы этого не понимали и нас огорчали неудачи его выстрелов. «Ладно, – через некоторое время сказал папа, – будет на сегодня. Вполне хватит и утренней добычи. Давайте-ка, пойдём. Нам ещё далеко идти». Он закинул ружьё на плечо, взглянул на часы и скомандовал двигаться дальше.
Пересекая одну из затенённых полян, папа остановился. «Знаете, что это такое?» – спросил он нас, показывая на выделяющиеся среди молодой луговой зелени сочные стебли какой-то травы, которая, раскрываясь узким и длинным глянцевым листом, уже кое-где украсилась белыми зонтиками соцветий. Мы, конечно, не знали. «Это черемша, – сказал папа, – её ещё называют диким чесноком, а иногда и луком. Вот, – он нагнулся и сорвал пару стеблей, – понюхайте». Мы, стукаясь лбами, втягивали, действительно, чесночный запах этого растения: «А её есть можно?» «Конечно, – ответил папа, – мы, деревенская детвора, всегда весной-в начале лета ходили в лес за черемшой. Она полезна для здоровья и при готовке еды была кстати. Давайте-ка, наберём её с собой!» Мы с удовольствием сделали ещё один краткий привал на этой полянке и нарвали два пучка черемши – один с собой в деревню, другой – для дома, чтобы удивить и обрадовать нашу маму.
И, чтобы дальше не отвлекаться от движения по маршруту, папа предложил попробовать и другой дар весеннего леса – берёзовый сок. В роще он выбрал крепкое, словно налитое молодое деревце с такой белой берестой, что мне, уже тогда увлекающемуся рисованием, захотелось изобразить на ней что-нибудь такое же радостное и весеннее. А брат достал из рюкзака наш туристический топорик. «Нет, – сказал папа, – запомните, сыны, это не топорное дело. Убери-ка его назад! Топором только погубишь дерево или поранишь его и оно долго потом будет болеть». Он достал из кармана свой острый перочинный ножик, которым любил ловко и аккуратно затачивать нам карандаши, и где-то на уровне своего пояса сделал на стволе березы небольшой надрез в виде буквы «Т». Тут же из надреза потекли крупные прозрачные капли. Потом ножом подцепил и отогнул вниз из-под верхних перекладин буквы бересту с розоватой внутренней плёночкой. Посмотрел по сторонам и, сорвав жёлтый стебель прошлогодней травы, ножом обрезал её с двух концов, сделав трубочку. Эту трубочку он вставил в самый нижний конец буквы «Т» и заполнивший разрез сок тут же буквально чуть ли ни струйкой полился по трубочке на весеннюю землю. «Давайте котелок!» – скомандовал папа. Котелок был немедленно подставлен под струйку. Мы были в восхищении и нам хотелось тут же попробовать берёзовый дар. Конечно, это был не автомат по продаже газированной воды с сиропом или без него, что стояли тогда на улицах наших городов и за секунды наполняли сомнительной чистоты стаканы общего пользования бьющим в нос напитком с сиропом – газировкой. Пришлось подождать, пока сока набралось достаточно, чтобы всем нам сделать хотя бы по паре глотков. Не скажу, чтобы он мне очень понравился, но в лесу, а тем более весеннем – всё казалось вкусным: и горькая черемша с луга, и сладковатый сок прямо от самой берёзы. Но прежде чем уйти, папа сказал, что оставлять дерево с открытой, пусть и небольшой, но раной – негоже. Так оно будет терять нужные для него в это время жизненные соки и может заболеть. Папа поковырялся рядом с корневищем в сыроватой земле, намял пальцами что-то вроде глиняного шарика, вложил его в надрез, придавил и ещё примазал поверху. «Вот так. Теперь всё будет в порядке! Идём дальше».
Так незаметно, с короткими остановками мы проделали большую часть нашего пути. На одном из привалов папа разрешил нам пострелять из малокалиберной винтовки, которую, бывая на охоте, по очереди носили мы с братом. Винтовка была трофейная, папа привёз её из Германии, где служил и где наша семья жила несколько лет после войны. Как заядлый охотник, любящий охотничье оружие, он не мог упустить случайно попавшееся в его руки необычное произведение оружейного мастерства – она была двуствольной и с вертикальным расположением стволов. Верхний ствол – нарезной под стандартный малокалиберный патрон, нижний – гладкоствольный под «бекасиную» дробь: дома в добротных зеленоватых немецких коробках с серебристыми вензелями, медалями и какими-то готическими надписями хранились небольшие снаряжённые папковые (бумажные) патроны оранжевого цвета с золотистыми головками-капсюлями, на которых было выдавлено изображение жёлудя. Винтовка была изящная, очень легкая, короткая – чуть больше метра – и поэтому папа, приучая нас к охоте, брал её с нами в поля, леса и на озёра для того, чтобы мы могли отрабатывать меткость в стрельбе. Сам он охотился с ней редко, только зимой на тетеревов, сбивая их издалека с веток берёз.
Мы тут же устроили с братом соревнование на эту самую меткость. Стреляли по воткнутым на краю вспаханного поля веткам, кускам засохшей земли, по изготовленным ещё дома самодельным бумажным мишеням. И, когда подошёл мой черёд, я было нацелился на вывернутый плугом засохший кусок земли, как вдруг на него села какая-то птаха, по-моему, трясогузка, которая своими движениями тут же привлекла меня и я, безотчетно, сдвинув мушку на неё, нажал на спусковой крючок. Выстрел смахнул её на землю, и я увидел, как она там затрепыхалась. Отставив винтовку, я подбежал к ней: трясогузка была жива и даже попыталась убежать от меня, волоча за собой неестественно вывернутое перебитое крыло. Ужас охватил меня. Я поймал её, бегом вернулся к папе и, от волнения не зная, что ему сказать, просто протянул руку с несчастной птицей, вертящей в моём кулаке головой. Папа осмотрел её, вынул нож и обрезал висевшее на коже крыло. Я заплакал. Папа, не говоря ни слова, опустил трясогузку на землю, и она, ковыляя и нелепо взмахивая уцелевшим крылом – видимо, пытаясь взлететь – скрылась в траве. «И что теперь с ней будет?» – продолжал плакать я. «Ну, что? – пожимая плечами, с неохотой сказал папа, – ничего хорошего: подберёт какой-нибудь зверь, лиса, в первую очередь». «Съест?» – в ужасе спросил я. Папа кивнул головой, а я зарыдал ещё горше. Брат был покрепче меня, но и он зашмыгал носом. «Вот, сыны, – обнял нас обоих папа, – за сегодняшний день у вас уже были два урока, – и, подумав, добавил, – да и у меня тоже. Надеюсь, вы их запомните». Конечно, папа имел ввиду этот ненужный и драматический пал травы, при котором чуть не погибло все семейство ласки, и мою стрельбу по невинной трясогузке.
Уверяю вас, что я, действительно, крепко запомнил эти уроки и, хотя ещё много лет страстно увлекался охотой, не пропуская ни одного сезона, но позже, в зрелом возрасте отошёл от этого с древних времён присущего мужчинам занятия, при этом нисколько не осуждая и продолжая уважать эту страсть у других. И вряд ли та неразумно погубленная мной трясогузка стала причиной такой перемены во мне, но свою роль маленькая трагедия в весеннем лесу несомненно сыграла. Да и мой папа уже никогда и ни при каких ситуациях, когда мы бывали в наших охотничьих и рыбацких походах, не вспоминал о необходимости пала травы весной – для него это тоже, видимо, был хороший урок, а, будучи грамотным охотником и отличным стрелком, он стал более разборчив в стрельбе, и ему очень не нравилось применять в охоте глагол «убивать», предпочитая вместо этого говорить «добывать». Да и в целом, охота и рыбалка для него были прежде всего мостиком в тот мир, который он любил беззаветно, и любовь к которому сумел передать нам, его сыновьям, – мир природы.
…Вскоре мы вышли на наезженную лесную дорогу, что шла от станции. Частые многолетние березы, высокие сосны и ельник все дальше и дальше отходили вглубь леса, сменяясь зеленеющим мелколесьем и кустарником, потом пошли обширные поляны и заросли кустов боярышника, говорившего о том, что где-то рядом течет река, и, наконец, внизу в неглубокой долине в зеленоватой дымке показались крыши деревенских домов. По знакомому с раннего детства деревянному мосту мы перешли неширокую речку, ещё по-весеннему бурлящую полой водой, над которой уже зеленела первыми распустившимися листьями черемуха. Вечерело, дым из труб топившихся печей вертикально уходил в сиреневое небо. Начинали перекликаться петухи, колхозные гуси, гогоча, возвращались с ближних полей, стоящие на улице деревенские жители, вышедшие встречать возвращающееся с выпаса стадо, приветливо здоровались с нами. Папу они знали, да и большая часть из них была в близких или дальних родственных отношениях между собой, а, стало быть, и с нами, поскольку наша фамилия происходила от названия этой деревни.
«Вот мы и дома», – сказал папа. Я посмотрел на него и неожиданно для моего возраста, когда такие понятия, как старость и молодость, ещё непостижимые и весьма отвлечённые понятия, вдруг осознал, нет, просто увидел, как был молод в тот чудесный, тёплый и мягкий весенний вечер на этой деревенской улице мой папа.
ЗЕЛЁНЫЙ КОНУС
Давно это было. Я ещё в школе учился, в шестом или седьмом классе. Как-то в начале осени папа предложил мне и моему старшему брату поехать с ним на охоту, но всего лишь на день, без ночевки. Мы любили бывать с ним на природе: на охоте ли, на рыбалке – всё равно, главное, чтобы с ним. План нашей однодневной вылазки был такой: рано утром в воскресенье – субботы тогда ещё были рабочими – нам нужно было первым автобусом выехать из нашего небольшого шахтерского городка на Южном Урале, доехать до конечной остановки в каком-то дальнем посёлке, узнать там у кондуктора, когда отправляется назад в город последний автобус этого маршрута, а уж затем пешком пройти три-четыре километра до озера, пострелять на вечернем утином перелёте, наиболее добычливом для охоты времени, – правда, ружьё было только у папы, а мы до охотничьего оружия тогда ещё не доросли – и, как начнёт темнеть, без всякого опоздания вернуться к автобусной остановке, чтобы доехать до дома и лечь спать в свои кровати, а не ночевать под открытым небом. Папе нашему утром надо было на работу, да и мы тоже были не на каникулах. Вот такая стояла перед нами задача.
Мы удачно добрались до места охоты – довольно большое и пустынное озеро с редким и низким камышом вдоль береговой полосы. Да и сам берег, мелкохолмистый и кочковатый, поросший бурьяном и невысоким кустарником, выглядел тоскливо в тот серый осенний день. Хорошо, хоть дождя не было. Но, как известно, охота пуще неволи…
Пока было светло, стрелять не пришлось – утки летали редко, да и, как мы ни прятались за кочками и в бурьяне, они, видимо, замечали нас и облетали стороной. Вся надежда была на вечерний перелёт. Ждать его пришлось недолго – всё-таки осень и темнело рано. Перелёт вскоре начался, утки живее пошли над нами, и папа активно встречал их выстрелами своего двенадцатого калибра. Мы с братом поочередно выполняли обязанности охотничьих собак и исправно находили и приносили сбитых уток, если они падали на берег, а упавших в воду доставать и не пытались, поскольку высоких забродных сапог у нас не было.
Охота завершилась быстро. Окончательно стемнело и даже собраться, чтобы идти к автобусу, было не легко – ничего не было видно. Тем не менее, вскоре мы уже шли гуськом за папой, натыкаясь в полной темноте друг на друга и спотыкаясь на кочках. Вот, по возрастающей тяжести поклажи становилось понятно, что поднимаемся вверх – карабкались на какой-то холм, вот, пошло полегче и даже потянуло вниз – ясно, что спускаемся вниз в обширную и поросшую кустарником лощину, которую, помним, пересекали днём, когда шли из посёлка к озеру. Ещё помнили, что посёлка того, куда мы сейчас направлялись, из глубины этой лощины не было видно, стало быть сейчас до него оставалось километра два. И нигде ни огонька, ни звёздочки на небе – видать, вдобавок к ночной темноте так и не растянуло завесившие небо осенние облака и хмарь – вокруг темно, хоть глаз выколи. Потом мы поняли, что стали опять подниматься вверх по склону, вот за ним и должна была быть та тропа, по которой нам предстояло открытым полем идти прямиком в посёлок к автобусу. И тут…
…И тут в этой кромешной темноте внезапно вспыхнул свет. Но не тот свет, от которого мы инстинктивно отворачиваемся или заслоняемся рукой, когда в темном помещении кто-то неожиданно включает яркую лампочку и слепящий поток заполняет всю комнату и к которому глаза не сразу привыкают. Нет, это был совсем другой свет. Во-первых, он не осветил всё вокруг, а лишь ту часть местности, на которую было направлено расширенное на десятки метров основание гигантского конуса этого необычного света, узким концом уходящего в небесные выси. Это был именно чётко очерченный конус, а не какой-нибудь прожекторный луч. Таким мы его видели, поскольку оказались в этот момент несколько в стороне, на самом краю освещённой части лощины, не дойдя немного до вершины холма. Во-вторых, цвет вспыхнувшего света не имел ничего общего с тем, к которому мы привыкли при зажженной электрической лампочке – он был зелёный или даже зелёно-молочный, какой бывает у неоновых светильников. И он не слепил, а, вспыхнув, превратил выхваченную им часть чёрной ночи в такой же зелёно-молочный световой день. Конус этот, как гигантский колокол, равномерно и неспешно раскачивался, как будто бы рассматривал или шарил по земле в поисках чего-то. И всё, что он освещал, было видно до малейшей детали: каждый листочек, каждую ветку густых кустов, каждую ямку. Но самым впечатляющим была такая картина: там, где конус света соприкасался с землёй, происходило нечто непонятное, напоминающее кипение: вздымались клубы белого и зеленого то ли дыма, то ли пара, который выше кустов не поднимался и тут же исчезал, как только свет уходил, уступая место ночной тьме. Нам довелось и самим испытать это «кипение» на себе, когда конус пару раз своим краем прошёлся и по нам. Ни запаха, ни звука мы не унюхали и не ощутили. Так, как будто что-то обдуло нас легким ветерком и тут же пропало без следа.
Застыв от неожиданности на месте, мы попеременно то задирали вверх головы, пытаясь разглядеть источник света, то изумленно пялились на зеленое бурление на земле, а поскольку лощина была ниже нас, то со склона перед нами открывалась просто фантастическая, неземная картина! Ничего не давали и наши попытки увидеть и определить, откуда идёт этот странный свет и где заканчивается узкое остриё конуса. Ясно было одно: начинается он где-то выше низкой в тот вечер облачности. При этом, источник света – что бы или кто бы это ни был – оставался недвижим. Поразительно было и то, что при этом стояла полнейшая тишина – не было слышно ни характерного звука летящего самолета, ни тарахтения винтов вертолета, если предположить, что с них для чего-то освещали странным светом унылую лощину – ничего!
Прийдя в себя, мы подтянулись поближе к папе – необычность того, что происходило, не могла не пугать нас – и начали спрашивать его, что же здесь происходит, кто светит и почему? Наш папа, бывший военный, фронтовик и артиллерист, а, стало быть, человек бывалый, у которого всегда были ответы на наши вопросы, сейчас пожимал плечами, молча смотрел на происходящее и было понятно, что и он ошеломлен не менее нас.
Всё это продолжалось минут пять, не больше. Свет внезапно разом погас – как будто кто-то щелкнул выключателем, – и всё погрузилось в темноту, ставшую ещё гуще. Мы ещё постояли, давая глазам возможность привыкнуть к тьме и ожидая, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Только звенящая тишина темной ночи, да какие-то слабые звуки жизни из пока ещё не видимого за гребнем склона посёлка. Папа произнёс что-то вроде неопределенного «м-да», потом скомандовал «пошли!», и мы, молча и спотыкаясь, продолжили наш путь, благополучно вышли из лощины, нашли по каким-то ориентирам заветную тропу и без напоминания в ускоренном темпе зашагали к мерцавшему желтыми огнями окон домов посёлку, то и дело оглядываясь назад. Там за нами теперь ничего не происходило – лощина утонула в сомкнувшейся над ней ночной пелене. Помню, что было зябко. Во всяком случае мне. Но явно не от сырой осенней погоды.
К автобусу мы пришли вовремя. Долго ехали до своего городка и добрались до дома совсем поздно, за что нам, а особенно папе, нагорело от мамы.
Думали ли мы впоследствии о том, что видели? Конечно. И с папой на эту тему разговаривали, и меж собой рассуждали, большей частью, разумеется, по-мальчишески. Но ни в газетах, ни по радио или телевидению – правда телевизора у нас тогда ещё не было – не было ни написано, ни сказано ничего, что могло бы помочь нам понять, что же такое мы видели в небе и над землёй в тот темный осенний вечер.
В наших собственных рассуждениях мы пришли только к одному общему выводу, что это не был ни самолёт и ни вертолёт – во всяком случае ничто это не подтверждало пока мы заворожённо наблюдали за необычно светящимся гигантским зелёным конусом. Воздушный шар? Да, нет же, какой шар, да ещё и в ночную тьму? К тому же воздушными шарами, насколько я понимаю, у нас в стране тогда особо не баловались.
Надо также сказать, что в те годы – а это происходило в начале шестидесятых, уже после полёта человека в космос – так пышно, как это началось через десяток лет, пока ещё не расцвели всякие рассказы и байки об инопланетянах, неопознанных летающих объектах и прочих чудесах. Но мой интересующийся космосом, техникой и точными науками старший брат был более подкован и заострен на эту тематику, – доказав это позже своим выбором в жизни, – так вот он, хорошенько подумав и обговорив это странное явление со своими такими же головастыми друзьями, сказал мне по секрету от папы и мамы, что это точно были инопланетяне, что-то высматривающие на нашей грешной земле. В то время мы вовсю зачитывались журналом «Техника – молодёжи», где нам особенно нравился раздел под рубрикой «Антология таинственных случаев». Поэтому версия брата о внеземном происхождении виденного нами в тот осенний вечер «зелёного конуса» больших сомнений у нас не вызвала. То есть, что мы как раз и были свидетелями такого «таинственного случая». На том и порешили.
Прошло уже много-много лет после явления того «зеленого конуса» над тёмной лощиной, но я так до сих пор своего мальчишеского убеждения о том, что мне довелось увидеть, не меняю. И когда в какой-нибудь компании кто-то заводит речь о таинственных и неопознанных явлениях, то вдруг выясняется, что практически каждый из нас что-то и где-то этакое видел или слышал. И я не остаюсь в стороне – и рассказываю об этом давнем случае. Ничего, пока всё нормально. Слушают. Некоторые понимающе качают головами. Стало быть, верят.
Вот такая была история.
СЧАСТЛИВАЯ ЛИСА
«…В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в декабре…». Пушкинские строки лишь подтверждают, что в нашем суровом русском климате беззимье и бесснежье – явления довольно обычные. Одно из них мне хорошо запомнилось благодаря забавному случаю, происшедшему со мной много лет тому назад на охоте.
Мне было лет тринадцать-четырнадцать, когда в конце октября – начале ноября – обычном времени прихода снежной и морозной зимы в наши края – случился погодный конфуз: снег взял и не выпал, да и погода вплоть до стучавшегося в дверь декабря стояла «на дворе» совсем не зимняя, скорее осенняя, с зябкими дождями и промозглым ветром.
«Да-а, – сказал как-то папа, покуривая свой „Беломор“ и невесело глядя в окно на серое небо и мокрый двор, усыпанный облетевшими и вбитыми в грязь листьями, – на озёра за северной птицей ехать в такую погоду не хочется: далеко, да и намучаешься по нашим дорогам, а в лодке за день до последней нитки промокнешь под этим ноябрьским дождём. Одна простуда! Нет, на озёра мы не поедем, а, давайте-ка, сыны, – обращаясь уже ко мне и моему старшему брату, предложил он, – в выходной день смотаемся куда-нибудь недалёко на электричке и погоняем зайцев! Составите мне компанию? Ну, не сидеть же нам дома!»
А ещё папа сказал, что в такое бесснежье охота может получиться очень удачной, поскольку заяц-беляк живёт по своему календарю: осень настала – меняй свою серую с рыжими вкраплениями шубу на белую. И потому «косого» сейчас и за километр видно. Правда, и сам заяц, понимая, что он нынче как на ладони перед всеми своими врагами и обидчиками, в такую погоду ведёт очень осторожный образ жизни, дожидаясь спасительного снега, передвигаясь и кормясь поэтому только по ночам. А светлым днём он прячется где-нибудь под валежником в глухих лесных завалах или густых кустарниках, боясь лишний раз пошевелиться. Через него в такое время можно чуть ли ни перешагнуть – вожмется в землю и не тронется с места. Единственно, кто его точно может поднять и заставить выскочить на всеобщее обозрение – охотничья собака или волк с лисой. Собака-то ещё ладно – даже если и выгонит косого с лёжки на охотника, то не факт, что тот сделает меткий выстрел. А если промахнется, то, бывает, что гончая – по каким-то только ей известным принципам – зайца дальше гнать не станет. Так что шанс остаться в живых есть. А вот если волк или лиса, то те непременно станут преследовать, причем до последнего и тогда-то у ушастого в его белой шубке этих самых шансов будет очень мало.
Конечно, я был не против поехать. Охоту я любил сызмальства, а ездить на неё с папой, умелым и опытным охотником, было для меня сплошным удовольствием. Увлекался охотой и мой старший брат, но он уже потихоньку вступал в тот период юношеской жизни, когда появляются другие интересы и предпочтения, и потому, сославшись на свои планы, решил остаться дома.
Но мы поехали всё же не вдвоем: к нам с большим желанием присоединился давний друг нашей семьи и папин сослуживец, тоже заядлый и грамотный охотник, без которого мы редко совершали тогда вылазки на природу.