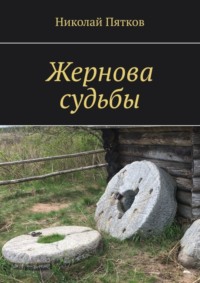Полная версия
Июньский снег. Рассказы
Мы с братом могли видеть всё это в окошки, к которым нас, сердясь, отпускала мама – ей казалось, что мы будем тревожить устроившихся там на долгий путь дядиных односельчан. Но они благодушно улыбались, подвинувшись, подпускали нас к окошкам и даже поддерживали, когда домик наш покачивало на ухабах или наклоняло на холмах. Но там виден был только один снег, да окончательно очистившееся от утренних облаков бледно-голубое зимнее небо. Поэтому большой радостью для нас, да и остальных пассажиров были несколько остановок нашего тракторного поезда, чтобы можно было передохнуть от неудобного сидения и укачивания, а мужчинам выйти покурить – мотаться в вагончике предстояло часа два-три, не меньше. Иногда такая «морская» качка была довольно чувствительна – все хватались друг за друга, вцеплялись в скамейки, женщины охали. Хозяйка гуся не всегда успевала удерживать свой живой груз, и тот, гогоча от изумления, ездил в корзине по вагончику, причаливая то к одному, то другому пассажиру. Когда гусь направлялся к нам, я испуганно хватался за маму – летом такой же гоготун больно пощипал меня сзади и с тех пор я их очень боялся. Но дядя Ваня каждый раз решительно выставлял на пути надвигающейся для меня угрозы свою ногу в белом отделанном по ступне коричневой кожей начальственном сапоге-бурке и гусь уезжал к его односельчанам. Раскалённую печь, в которую дядя Ваня ловко на ходу подбрасывал дрова, мотающийся гусь всегда успешно проскакивал мимо, чему я несколько досадывал – какое-то чувство мщения за прошлые покусы во мне всё-таки таилось. Наконец дядя не выдержал этого футбола и пригрозил хозяйке гуся высадкой в чистое поле с ее домашней птицей, если она не будет его держать как следует. Тетенька тут же крепко ухватила корзину за ручку, виновато и понимающе всем улыбнулась, а я испуганно взглянул на маму и уже был готов простить ни в чем не повинного гуся с его хозяйкой, как мама мне сказала, что дядя Ваня просто шутит и никого на таком морозе в чистом поле он, конечно же, не высадит.
На первой же остановке, когда дядя Ваня распахнул дверь, мы буквально задохнулись от ворвавшегося в вагончик свежего морозного воздуха, в котором, искрясь в лучах невысокого, но всё же уже близкого к полуденному бело-слепящего солнца на синем небе, кружились невидимые мириады блёсток снежной пыли, поднятой то ли нашим трактором, то ли не удерживаемом ничем на равнине ветром. Кругом, насколько было видно, белел только снег, уложенный каким-то сказочным великаном в округлые холмы и синеватые впадины. Казалось, что по его серебристой, как затвердевшая сахарная корочка поверхности, можно было бежать, скользить, ехать на спине и на животе, взлетая с одного холма на другой. Как же нам хотелось это попробовать!
Мама не успела даже сказать слова, как мы с братом спрыгнули вслед за дядей Ваней в снег, придавленный между широко расставленными полозьями днищем нашего домика, и тут же провалились чуть ли не до пояса.
– Что же вы делаете! – отчаянно вскрикнула мама, – вы же наберёте полные валенки снега! Кто вам разрешил выйти? Беда мне с вами!
Но было поздно, снег уже был в валенках и я это быстро почувствовал. Тогда мама, безнадежно махнув рукой, попросила дядю Ваню помочь нам с пользой провести время на этой остановке. Опыт решать такие дела у нашего дяди был: дочь в возрасте между мной и старшим братом, и сын – младше меня на год. Дядя молча выдернул нас по очереди из глубокого снега и, как шахматные фигуры, переставил за угол вагончика, сурово скомандовав: «Быстрее, а то всё на свете отморозите! – и добавил, – сами! Большие уже». Поняв, что нам так или иначе попадёт от мамы за самовольство, мы еще попытались успеть бросить друг в друга снежки. Но этого не получилось: во-первых, снег на таком морозе был рыхл и пушист, и потому не лепился, а, во, вторых, – не знаю, как брату – мне тут же в руки впились миллионы иголок и всё желание играть в снежки сразу же пропало и захотелось назад в вагончик к жаркой печке.
А мороз, похоже, стал ещё крепче. Дядя вернул нас назад к маме, она сдернула наши валенки и вытряхнула из них кучу снега, который тут же на глазах начал превращаться в тёмные лужицы воды на теплом деревянном полу. Руки у нас за эти минуты на снежном поле так замёрзли, что отогреваемыми возле раскалённой печки скрюченными пальцами даже пошевелить было невозможно и болели их кончики. Хотелось заплакать, но мы терпели, знали, что наши слёзы маме сейчас не понравятся и нам не помогут.
– Грейтесь! – сердито сказала она, – и чтобы к приезду к бабушке хотя бы носки у вас высохли. Протягивайте ноги к печке!
Была ещё пара остановок, но мы уже не рвались на мороз, хотя и вытягивали шеи, как тот гусак в корзине, в сторону открытой двери, желая посмотреть, что же всё-таки происходит там на снежных просторах без нас. Иногда кто-то из пассажиров смотрел в окошко и, узнав местность, говорил сколько нам ещё осталось ехать до Лопаток. Наконец подошло время, когда все сказали «уф-ф!», а дядя Ваня объявил, что въезжаем в наше село. Как и все остальные, мы уже, честно говоря, подустали от долгой езды в закрытом вагончике, бултыхания на кочках, от крутых подъёмов и спусков, когда все хватались друг за друга и, хотя и со смехом, но с явным нетерпением ждали, когда же мы будем на месте. А мы ещё ждали того, что наконец увидим нашу бабушку, тётю и двоюродных сестру и брата, с которыми сдружились, бывая у них летом гостях. Лопатки и их дом были нам родным местом: мама, как я говорил, провела здесь свои школьные годы и молодость, брат тут родился, а я в трехлетнем возрасте ходил со старшей двоюродной сестрой в детский сад, когда после возвращения из Германии, предыдущего места службы папы, был оставлен здесь на попечение родственников на полгода, пока родители и старший брат устраивались в Белоруссии.
Потихоньку вагончик пустел. Сошла в каком-то проулке и тетенька с гусём, который, как мне показалось, на прощанье взглянул на меня круглым глазом и прогоготал что-то примиряющее – трехчасовая езда нас, похоже, сблизила.
– А вот и наш черёд пришёл – приехали! – через некоторое время сказал и дядя Ваня, когда опустевший вагончик остановился у видневшейся в окошке части резной крыши дома с водосточной трубой. Мы с братом, боясь снова рассердить маму, шепотом крикнули «ура!» и теперь уже с ее разрешения спрыгнули с порога нашего передвижного домика на укатанный снег деревенской улицы и оглянулись по сторонам.
Ах, как же здесь было здорово! Знакомая по нашим летним приездам сюда улица сейчас совершенно преобразилась: она утратила разнообразие летней расцветки, в которой можно было найти все краски радуги, создаваемой уютными цветущими палисадниками перед окнами домов, серебристыми от шевеления на теплом ветру листьев деревьев, коричневатыми кустами акаций с созревшими стручками, из которых мы делали «свистульки», и усыпанными по краям мелкими желтыми цветками зелёными лужайками проулками между домами, через которые шли отлогие спуски к озеру. Не видно было сейчас и проложенных вдоль обеих сторон улицы аккуратно сколоченных деревянных настилов, заменяющие здесь весной, летом и осенью асфальтовые тротуары – по ним, нагретым летним солнцем, было приятно бегать босиком, рискуя, правда, получить занозу в пятку, или гонять на велосипеде «Школьник» нашего младшего двоюродного брата. И над всем этим благолепием тогда высоко в голубизне бесконечного неба висело раскаленное солнце и плыли неведомо куда белые громадины летних кучевых облаков.
А сейчас была зима, настоящая морозная сибирская зима с обильным снегом, с искрящимся воздухом, со слепящим солнцем, которое хотя и мало согревало, но было настолько радостным, что нам, мальчишкам, думалось, что нет на свете лучше времени года, чем зима! Крыши домов нахлобучили по самые глаза-окошки пышные белые дед-морозовские шапки и лишь там, где торчали приветливо курящиеся сизым дымом топящихся печей трубы, снег осел вокруг темно-синим провалом, а палисадники были завалены снегом до самых оконных ставней и едва угадывались по торчащим верхушкам окружающих их штакетников. Да и сама улица с ее летними неровностями превратилась под укатанным снегом в отличную, немного присыпанную соломой и навозом, желтоватую дорогу, и по ней, наверняка, можно было кататься на валенках или на санках, что, собственно, нам и хотелось тут же сделать, но вмешался дядя Ваня.
– Так, – скомандовал он, – ну-ка, все в дом! Или примёрзли?
Из-за украшенных изморозью стёкол двойных рам выходящих на улицу окон дядиного дома уже строил нам рожицы двоюродный брат, махала рукой и радостно улыбалась его старшая сестра. Дядя Ваня потянул за торчащий из отверстия высокой калитки кожаный ремешок, с обратной стороны что-то холодно звякнуло металлом, массивная дверь открылась, и мы, перешагнув через высокий порог, вошли во двор дома.
Дядин дом, как и большинство домов села (в Лопатках проживало тогда порядка двух с половиной тысяч населения, к тому же в те годы здесь был районный центр), являл собой пример добротной сибирской жилой постройки: срубленный из обхватных стволов сосны пятистенок (пятая опорная стена была внутренней и делила дом на две части: большую – жилую и меньшую – хозяйственную), проконопаченный снаружи и изнутри паклей и мхом, крытый кровельным железом и обнесённый обязательной для местного климата утепляющей завалинкой. Окна с трёх сторон – на улицу и во двор, окруженный высоким забором с массивными деревянными воротами, увесистым запором-задвижкой и калиткой, украшенной снаружи незатейливой резьбой. Над воротами двусторонний навес от дождя и снега – им надлежало служить долго. Вдоль дворовой части по всей длине забора выкладывалась постоянно пополняемая высокая поленница березовых дров: русская печь на кухне – о ней надо сказать отдельно – топилась ежедневно, а в холодное время года к топке дровами подключалась и высокая чёрная в белых с синими разводах изразцах круглая голландская печь в «зале» – так называлась большая или гостиная комната, к которой за тонкой перегородкой примыкала небольшая комнатка-спальня для детей – одним боком «голландка» выходила и туда. Во дворе – хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы, а также хранения всякой утвари, за ними огород, большая часть которого вполне понятно отводилась под картошку и горох, тут же высокие, хорошо сдобренные навозом грядки под огурцы, редиску, лук, чеснок, помидоры, зелень – в основном укроп для засолки овощей. Здесь же стояла высокая деревянная бочка с водой, в которой мы для виду по настоянию взрослых мыли сорванные с грядок огурцы и редиску и тут же их хрумкали – и ведь никогда не болели животами! В огороде же находилась и уборная-скворечник, возле которой летом обильно вырастала, цвела, а затем и усыпалась чёрными сладкими ягодами так называемая поздника, которую по созвучию некоторые называли несколько по иному, намекая на место её произрастания. Садами в селе практически никто не занимался – плодовые деревья часто гибли при здешних суровых зимах, да и с зайцами была просто беда.
С незлобивым лаем нам в ноги бросилась небольшая дворовая собачка, Жулька, которую дядя Ваня, посуровев, «секретным» словом тут же заставил замолчать и с извиняющимся взглядом укрыться где-то возле хлева. Из-под высокого крытого крыльца подбежала к нам и другая собака – светло-коричневого цвета ирландский сеттер Дианка, которую мы знали и любили, бывая здесь летом. Она без лая деликатно облизала нам в знак радости от нашего приезда руки и лица, одновременно осторожно искоса поглядывая на хозяина, который, как мы помнили, мог быть суров и с ней, его верной помощницей в поле и на озёрах – дядя был заядлый охотник. Поэтому она сама без напоминания отстала от нас и молча стояла рядом с крыльцом, усиленно работая косматым, но аккуратным хвостом. Дианка и ее дворовая соратница жили во все времена года по-спартански: под крыльцом, где пространство было оборудовано под некое подобие будки. «Собаку в дом пускать – значит портить», говорил дядя Ваня.
Мы поднялись по крыльцу, дверь, обитая тёплой мешковиной и перекрещенная брезентовыми ремнями, прихваченными гвоздями с широкой шляпкой, отворилась, и вот мы уже в объятиях нашей тети и смущенно здороваемся с повзрослевшими двоюродными сестрой и братом.
– Давайте-давайте, проходите в сени, да дверь закрываем, а то холод в дом напустим!
В сенях темно и в перемешку с ворвавшимся морозным воздухом пахнет сушеной рыбой, какой-то травой и смолистым деревом, как от новогодней ёлки, внесённой с улицы в домашнее тепло. И мне почему-то казалось, что сейчас мы увидим и эту ёлку.
Вот открылась другая дверь – прямо в кухню, пахнуло щемящим сердце милым жильём и печным теплом – и я уже слышу родной голос нашей бабушки. Она, поджарая старушка, как всегда, аккуратно причесанная, в легком домашнем головном платочке, завязанном на затылке под седым пучком волос, в ситцевой с мелкими цветочками кофточке, напущенной на так знакомую нам, ее внукам, длинную юбку, к которой мы прижимались лицом, когда она гладила нас по головам своей натруженной и такой ласковой рукой, приговаривая свое обычное «ах, вы, мои варнаки!», независимо от того натворили мы что-то или нет. «Варнаки» – сибирское название ссылаемого в те края в давние годы каторжного люда давно уже потеряло своё первоначальное значение и могло быть и ласковым, и неприязненным, смотря кто и как его употребляет. А бабушка наша любила нас всех. Вот и сейчас мы прижались к ней, а она, сдернув с нас шапки – «ведь взмокнете!» – целовала нас в макушки, а мы с братом жмурились как коты на солнце от этих ничем незаменимых ласок. Особенно, как мне казалось, больше их перепадало мне: я был любимый бабушкин внук, поскольку, как мне говорили взрослые, «пошёл» в дедушку, которого она называла «мой старичок». А ещё я внешне напоминал ей ее старшего сына Сашу, нашего дядю, погибшего в прошедшую войну. Двоюродный брат при этих ласках смотрел на нас, криво улыбаясь, наверное завидовал, поскольку был капризным и довольно зловредным мальчишкой, за что ему частенько влетало как от родителей, так и от бабушки, которая все равно его любила наравне с нами, а мы с ним вели себя как с самым младшим среди нас, детворы, и старались его не обижать.
Бабушка была ещё и в своём неизменном фартуке. Я уж и не могу вспомнить, видел ли я ее когда-нибудь без него – она всё время была занята домашними делами. Летнее её время начиналось в четыре утра с дойки коровы Машки и выгона ее и двух овец в стадо, которое в облаке золотистой в лучах восходящего солнца мягкой утренней пыли и под бряцание колокольцев вели пастухи через всё село по главной улице, и до вечерней дойки, кормления овец и вечно недовольной своим содержанием свиньи, а также кур и гусей; зимой – все то же самое, только корова, свинья и овцы сидели сиднем или лежали в хлеве, требуя подачи корма прямо на «стол». В промежутке между утренними и вечерними делами бабушка стряпала, готовила, прибиралась, возилась в огороде, что-то штопала, вязала всем шерстяные носки, топила печи и ещё находила время для того, чтобы на короткие полчасика присесть на кухне и, надев очки с толстыми стёклами, почитать местную газетку-малотиражку и при этом, возможно, всплакнуть над судьбою героев какого-нибудь романтического произведения, которое для привлечения подписчиков частями печатали в ней находчивые районные газетчики.
Кухня, в которой нас встретила бабушка, занимала чуть ли не полдома, не менее четверти ее пространства было отведено под русскую печь, огромную, высокую – взрослый не заглянет на лежанку, если не встанет на приступ, – с широким и высоким устьем, куда бабушка ухватом или деревянной лопатой легко и ловко ставила и доставала огромные чугунные горшки и прокопченные жестяные противни и сковороды. Горнило печи, когда там в глубине бушевал управляемый бабушкой жаркий огонь, напоминало о сказках про злую бабу Ягу и ее лопату, на которой она обманом пыталась отправить в гудящее пламя того или иного молодца, но в итоге попадала туда сама. И, действительно, места там могло хватить и для молодца, и для Яги. Но печь нашей доброй и любимой бабушки была мирная даже внешне: всегда тщательно побеленная, с начищенными заслонкой и вьюшками, украшенная поверху несколькими плитками тех же изразцов, что и на «голландке», ухваты, лопаты и прочий печной инвентарь аккуратно собран возле стены в нише или так называемом запечье. На лежанке всегда и зимой, и летом была расстелена кошма или лежали шерстью вверх дядины тулупы, к всегда тёплой широкой трубе прислонены подушки в цветастом ситце. Вдоль печи на проволоке занавеска. Рядом – на высоте лежанки – обширные деревянные полати, куда можно было перебраться, не спускаясь с печи, но для нас, детей, это было рискованное предприятие: для меня как-то одно такое путешествие завершилось конфузом – я не удержался и мягко, отчаянно цепляясь за выступы печи, съехал вниз прямо в стоявшую рядом кадушку с водой, откуда был немедленно выдернут бабушкой, которая, легонько шлёпнув меня по попе и проговорив своё обычное «ах, ты, варнак!», выгнала на улицу сохнуть, благо стояло жаркое лето. Лежанка на печи и полати были лучшими местами для наших детских игр, когда на улице была непогода. На протянутой вдоль печи массивной деревянной полке с горшками и мисками, был укреплён шведский сепаратор фирмы «Альфа-Лаваль», купленный ещё в довоенные годы. Бабушка на нём «разгоняла» молоко на сливки и «обрат» (обезжиренное молоко). Сливки шли на взбивание масла, а из обрата она делала удивительно вкусный квас. Станина у сепаратора была чугунной, а всё остальное из какого-то матово-серого металла и пройти мимо него, не прокрутив ручку – он при этом мягко жужжал, – было просто невозможно.
А уж какой вкусный хлеб – чаще в форме калачей – она пекла в этой печи из смеси пшеничной и ржаной муки! Сам по себе процесс просеивания был уже завораживающим: деревянное сито, казалось, само летает меж побелённых мукой бабушкиных ладоней и под ним, на тщательно выскобленном столе быстро растёт светло-кофейного цвета островерхая горка чуть дымящейся муки тончайшего помола. Много раз я пытался помогать бабушке просеивать муку, просил ее научить меня этому, казалось, нехитрому делу, но, оказалось, что это совсем даже не просто и требует не только сноровки, но и музыкального слуха, чтобы выдерживать заданный ритм мелодичного постукивания, слушая который можно было сладко задремать на полатях. Но какими же вкусными были из этой муки ее сибирские шаньги и пироги! Когда она вынимала их из печи, мы уже не могли спокойно бегать во дворе или играть на улице – запах больших круглых шанег, на которых сверху золотистой корочкой запеклась в печи густая домашняя сметана, творог или мятая с луком картошка, да ещё и сдобренные по горячему верху недавно взбитым коровьем маслом, доставал нас везде. Пироги она пекла с мелко покрошенными яйцом и зелёным луком, а иногда и с повидлом из огромных желтой меди жестяных банок, которые дядя Ваня привозил из Лебяжки. Мы, как галчата, собирались на кухне возле бабушки и она, усадив всех за стол, наливала к шаньгам и пирогам кому парного молока, кому сладкого чая из кипящего самовара, а кто любил и так, всухомятку.
А летом по утрам нас будило солнце, заглядывающее в окна и отражающееся от крашенных приятной светло-коричневой краской широких половиц, и невозможный по своей вкусовой красоте запах блинов, которые уже успевала напечь для нас среди всех ее многих дел по дому наша бабушка. К блинам на столе стояла глиняная чашка с растопленным золотистым коровьим маслом, которое бабушка сбивала сама в маслобойке. Блины складывали треугольником, чтобы зачерпнуть как можно больше масла – так здесь было принято их есть. Стояло и блюдце с сахарным песком, которое мы всегда подвигали младшему брату – он был фанатичный сладкоежка. Бабушка, радуясь, смотрела на то, как мы поглощаем блины, но иногда почему-то при этом тихонько утирала концом фартука глаза. Я не понимал, почему она плачет и как-то, обняв ее за шею, когда она, присев отдохнуть, читала свою газету, спросил ее об этом. «Сынок мой, Сашенька, твой дядя, когда раненый лежал в госпитале, все в письмах просил меня напечь и прислать ему этих блинов. Очень скучал по ним!» – сказала она, поглаживая меня по стриженной голове. «Ты послала?» – спросил я, надеясь услышать, что да. «Послала, – ответила бабушка, сняв очки и опять прижав конец фартука к глазам, – но куда там! Дошли ли нет, не знаю. Война была. Да и где наши Лопатки, а где тот самый Кронштадт…». Дядя Саша, сержант и замкомвзвода, воевавший на ораниенбаумском плацдарме, после тяжелого ранения, цинги и дистрофии, вызванной голодом, умер в эвакуационном госпитале и похоронен на Кронштадтском военном кладбище весной 1942 года в возрасте двадцати пяти лет. Его фамилия выбита там на стене памяти, и в дождливый июльский день уже в наше время я нашел и навестил эту братскую могилу, положив к её коричневым плитам мокрый букет цветов…
…С нашим приездом в доме дяди Вани стало веселее и шумнее, вот только никакой ёлки в комнатах не было, что нас, детей, очень печалило, поскольку до Нового года оставалось два дня. Мы с братом привыкли к тому, что у нас дома новогодняя ёлка была каждый год, ставилась она папой заранее, а ёлочных игрушек было столько, что их могло бы хватить на украшение двух или даже трёх зелёных красавиц. И всегда тридцать первого декабря, несмотря на поздний час, родители поднимали нас, сонных, и дарили подарки, с которыми мы вскоре опять засыпали и, наверняка, видели удивительные и радостные сны. Из подарков мне почему-то ярко запомнились круглые жестяные коробочки, на ультрамариновой крышке которых были густо рассыпаны нарисованные разноцветные конфетти и тонкой серпантиновой ленточкой выведено слово «Монпансье». Под крышкой лежали солнечного цвета слегка слипшиеся ромбики леденцов, фруктовый запах которых с тех пор и навсегда остался для меня связанным с новогодними праздниками.
Мы просто задергали маму вопросами о том, будет ли в доме дяди ёлка? Мама, наконец, сдалась и, строго предупредив нас о том, чтобы мы не досаждали по этому вопросу дяде Ване, сказала, что попробует всё выяснить. Но сначала она долго шепталась с тётей и поскольку они обе были учительницами и подругами, когда ещё бегали в девчонках, общий язык у них нашёлся быстро. И вот в составе такой усиленной педагогической делегации они провели серьезные переговоры с дядей Ваней, который в итоге, встав и пристукнув ладонью по кухонному столу, решительно заявил: «Ладно, будет вам ёлка!»
И, действительно, на другой день ближе к позднему вечеру, когда заснеженное село готовилось ко сну, погрузившись в густую ночную тьму – постоянного электричества там тогда ещё не было и свет в домах зажигался только на несколько часов вечером, когда из-за озера Долгое, тянувшегося вдоль одной стороны села, слышалось тарахтение генератора на местной машино-тракторной станции, – во двор на своём служебном «газике» въехал дядя Ваня и, ни слова не говоря, вытащил из машины елку. Собственно, это была не ёлка, а невысокая, но густая сосна – ели в том краю не так часты. Дядя занёс ее в дом и установил в зале, рядом с двумя молчаливыми фикусами-старожилами в тяжеловесных деревянных кадушках. «Можете украшать», – немногословно распорядился он и отнёс принесённый с собой из машины вместе с ёлкой топор куда-то в сени. Мы, дети, грянули своё обычное «ура!» и вместе с нашими мамами и бабушкой, сидевшими все это время затаенно на кухне, воспряли и начали думать, чем мы украсим новогоднюю ёлку. Собственно, всё уже было продуманно: в запасах у тёти нашлись какие-то старые елочные игрушки, младший брат, помявшись, принёс фантики и фольгу от съеденных им, сладкоежкой, конфет – он их собирал, сестра достала свои совсем детские игрушки, которые тоже могли быть украшением для ёлки, мама, применив свой учительский опыт, взяла ножницы и наладила с нами изготовление из сохранившейся на полатях старой обойной бумаги снежинок, китайских фонариков и гирлянд, а также высыпала на стол весь запас привезённых с нами шоколадных конфет, бабушка достала цветные нитки и кусочки ткани. Не было только верхушки для ёлки, с которой она могла бы, наверное дотянуться и до потолка, чего нам ну очень! хотелось. Младший брат после того, как мы живо описали ему это непременное украшение любой ёлки, уже начал капризно сопеть носом, мол, хочу верхушку и всё тут! «Ну, нету у нас верхушки, сынок! Ничего не поделаешь, обойдёмся и так», – уговаривала его тётя и в это время на кухне вновь появился нахмурившийся дядя Ваня, который вдруг сказал, что завтра попробует достать на работе эту самую верхушку для ёлки. Надо сказать, что наш дядя был начальником отдела культуры в районном руководстве, а поскольку ёлки для детей и взрослых в сельском клубе, бывшем церковном храме, устраивались, то шанс добыть островерхое украшение был. Тетя, чтобы не спугнуть его замысел, без нажима и как бы между прочим сказала: «Ну, что ж, Иван, получится, так получится, а нет, так нет!». «Сказал, достану – значит достану!» – усиливая в ответ на это свою задачу, ещё суровее ответил дядя Ваня, и в это время замигали лампочки на кухне и в зале, затих звук заозерного генератора и в доме, как и во всем селе, наступила темнота. Бабушка привычно чиркнула спичкой и зажгла висевшую над кухонным столом керосиновую лампу под широким абажуром и в каком-то странном металлическом жабо, похожем на то, которое носили герои из сказочных фильмов. Это круговое жабо было надето прямо на стеклянную трубку керосиновой лампы и от него шли два тонких проводка к висевшему на стене небольшому радиоприемнику. Бабушка подкрутила фитиль, добавляя свет на кухне, и приемник внезапно ожил, кашлянул по-своему и сказал мужским голосом, что «…вся наша великая страна готовится вступить в Новый 1954 год».