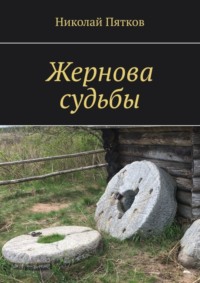Полная версия
Июньский снег. Рассказы
И вот уже когда за окнами утренней электрички потянулись под серыми небесами бесснежные и нерадостные поля с редкими рощицами голых лесов и жухлым камышом озёр и болот, папа объявил нам, что, возможно, нашу компанию пополнит и ещё один не менее важный участник нашей охоты – собака. И не просто собака, а натасканный охотничий гончак, которого ему обещал в любое время предоставить на «прокат» его старый хороший знакомый из деревни, примыкающей к станции, куда мы и направлялись. «Конечно, если он дома и жив-здоров», – с надеждой добавил папа. Я обрадовался, но спросил: «А как же собака с нами пойдёт? Мы ведь ему чужие». «Думаю, что пойдёт и подружится с нами, – ответил папа и улыбнулся, – его хозяин говорил мне, что Алтая – гончака так зовут – хлебом не корми, но дай сходить на охоту. Жутко любит это дело! Сам-то хозяин давно не охотничает: побаливает, староват стал бегать за зайцами, да ползать по камышам за утками. Посмотрим, может повезёт насчет собаки-то». Сомнения, конечно, были. А что поделаешь? Ведь не позвонишь, как сейчас, с мобильного. У большинства нашего населения тогда и обычных-то телефонов не было, а тем более в такой дальней и забытой Богом деревеньке.
Но всё сложилось удачно. Сойдя с электрички и пройдя деревенской улицей, мы постучали в калитку известного папе дома. За глухим забором залаяла собака, потом кто-то на неё прикрикнул, звякнула щеколда и калитку открыл с виду ещё крепкий невысокого роста пожилой мужичок, который сразу признал моего папу, всплеснул радостно руками и пригласил всех нас зайти в дом. Алтай – а это был он – ещё раз для порядка незлобно гавкнул, но, видя радушие своего хозяина к нежданным гостям, вылез из своей будки и присоединился к встрече, одобрительно виляя хвостом. Однако в дом мы, сколько ни просил радушный хозяин, заходить не стали за отсутствием времени – светлый день поздней осени и так очень короток, – а сразу же изложили просьбу о гончаке. Я в это время больше смотрел на него, красивого, сильного, породистого пса, светло-коричневого окраса с темными подпалинами вдоль крепкой спины, белой борцовской грудью, белым же вокруг черного блестящего носа полукружием, от которого на лоб тянулась и пропадала в тёмной и блестящей округлости головы светлая полоска, разделяющая его умные влажные глаза, внимательно рассматривавшие нас, и по его взгляду было видно, что наше одеяние, особенно, ружья на ремнях, патронташи на поясе и сумки на плечах возможно сулили ему на сегодняшний день радостные перемены в его затворнической жизни.
«Ну, Алтай, – повернулся к нему хозяин, – пойдёшь с гостями-то на охоту за зайцами?» Услышав ключевое для него слово «охота», гончак бурно заработал упругим хвостом и на его симпатичной мордуленции изобразился ничем нескрываемый восторг. От нетерпения он перебирал и подрагивал лапами, и, будучи не в силах уже сдерживать себя, громко и радостно залаял: «на охоту! на охоту!». Мы засмеялись, а я без всякого страха погладил его по крупной голове с аккуратными и в меру длинными прохладными ушами, за что он благодарно ткнулся мне влажным носом в ладонь. Контакт был установлен.
Выходя за калитку, мы спросили хозяина, надо ли взять Алтая на поводок. Он засмеялся и, помахав нам рукой, что, мол, ждёт с добычей вечером, прокричал вослед, что скорее Алтай нас возьмёт на поводок, чтобы мы не сбежали и не лишили его радости выхода в поле и лес.
За последними домами деревни начинался невысокий и редкий лесок – в основном березняк и осинник – затем пошёл вперемешку с ним лес покрупнее, его пересекали частые овражки, заросшие кустарником и жухлым разнотравьем. Места были вполне подходящие, чтобы с успехом потропить зайца. Мы растянулись, пошли «загоном», а Алтай уже давно и без всяких понуждений занялся исполнением своих прямых обязанностей охотничьей собаки: челночил между нами, тщательно проверял все попадавшиеся на нашем пути буераки и овраги, иногда замирал – то ли принюхиваясь, то ли прислушиваясь к только ему понятным запахам и звукам, – и по его напряженному телу было видно, что он ожидает главного – рвануть во всю свою природную прыть за любым, кто, не выдержав, выскочит оттуда, и гнать его, но гнать так умело, чтобы вынудить развернуться – пусть даже для этого придётся сделать приличный круг – с тем, чтобы вывести на охотника, то есть на одного из нас трёх. Правда и заяц сам тоже этому способствует, упорно в спасительном драпе держась границ своего ареала, где у него есть уже протоптанные тропы и готовые лёжки.
Алтай совершал все более длинные и продолжительные ходки, уносясь далеко вперёд нас. И вот, наконец, послышался его заливчатый и непрекращающийся лай, означавший только одно – он поднял и гонит на нас какого-то зверя. Мы в это время проходили густое мелколесье, я шёл на правом фланге, папа – на самом левом, наш товарищ – посередине. Я не видел ни того, ни другого. Мы только лишь иногда перекликались, стараясь не сбиться с пути и помогая тем самым нашему гончаку выгонять из лёжек затаившихся беляков и показывать Алтаю голосом, где мы есть. Приближающийся радостный лай «гоню, гоню! готовсь!» шёл сейчас как раз с левого фланга. Всё ближе и ближе, вдруг замер, и тут же бухнул выстрел любимого папиного двенадцатого калибра, и послышался его хорошо слышный в осеннем лесу победный крик «есть! взял!» И через некоторое время команда «пошли дальше!» Потом Алтай ещё ни раз, оглашая лес и окрестности азартным лаем гона, выводил зайцев на папу и нашего друга, гремели выстрелы и если они были удачны, то слышались радостные выкрики и традиционные охотничьи поздравления «с полем!»
Но всё шло как-то мимо меня. Может это было и правильно, поскольку в силу моих лет – шестнадцать пока ещё не исполнилось – мне не полагалось приличествующее охоте на зайцев дробовое тульское или ижевское ружьё, а таскал я с собой на плече малокалиберную винтовку, папин трофей со времён его службы в Германии после войны. Легкое, изящное, скорее, декоративное изделие немецких оружейников, конечно, не было предназначено для такой охоты. Надо было быть отличнейшим стрелком-виртуозом, чтобы попасть малокалиберной пулькой в бегущего опрометью, да ещё и петляющего зайца. Мы брали с собой на охоту эту винтовку, как правило, для развлечения – пострелять на меткость на привалах.
Вот и сейчас, услышав дальний от меня лай нашего гончака, я был почти уверен, что и этот очередной поднятый Алтаем заяц мне не достанется, а потому продолжил исправно выполнять роль загонщика.
Густое мелколесье расступилось, открылась небольшая полянка, на противоположном краю которой тянулись в серое ноябрьское небо несколько сосен. С карканьем с их ветвей поднялась пара ворон, на которых, делая замысловатые виражи, набросились тут же взлетевшие с кустов какие-то крикливые и встревоженные птицы, явно отгоняя их от этого места. Видно, выяснение отношений между пернатыми здесь шло давно. «Ага, – подумал я, – вот и возможность выстрелить. А то так за всю охоту и не потрачу ни одного патрона. Не попаду, так хоть пугану!» Слабый звук выстрела из моей винтовки все-таки как-то развёл спорщиков в разные стороны, но они вновь скоро сошлись уже далеко от меня, продолжая свою птичью ругань.
Я же, стоя посередине поляны, открыл затвор винтовки и, держа её в левой руке, полез в сумку на плече за новым патроном…
…Захлебывающийся лай невидимого за кустарниками Алтая вдруг стремительно переместился куда-то передо мной, и не успел я и сообразить, что, собственно, происходит, как из переплетения низких веток и высокой травы на меня выскочила… лиса! Она, буквально, влетела мне под ноги и под опущенный ствол незаряженной «мелкашки» и от неожиданности села, глупо расставив во второй балетной позиции задние лапы и уставившись на меня круглыми от изумления глазами. За ней из тех же кустов выскочил Алтай. Если бы он был машиной, то, наверняка, раздался бы душераздирающий визг тормозов и запахло подгоревшим металлом колодок и палённой резиной шин. Увиденное, видимо, потрясло его, ветерана-гончака, и он, ошарашенный, тоже сел. Картина, и в самом деле, была потрясающая, уникальная – на лесной поляне сошлись трое: я – остолбеневший от неожиданности горе-охотник с опущенной незаряженной винтовкой, лиса – чуть ли ни уткнувшаяся в её ствол и мои ноги, и метрах в трёх за ней – прочертившая по поляне след от торможения и выполнившая свои обязанности гончая собака Алтай. Последние двое – с высунутыми языками – едва переводят дыхание и, вперившись в меня сумасшедшими от бега глазами, задают один и тот же немой вопрос: «ну, и что дальше? стрелять-то будешь или как?»
Возникла классическая пауза.
Прервал её я тем, что, не найдя ничего лучшего, как ткнуть стволом остолбеневшую лису, уже готовую распрощаться с белым светом, и во все горло закричать на весь лес «па-а-а-па! лиса-а-а!!!» Дальше было ещё интереснее. Лиса вовсе не шарахнулась прочь от моего крика и тычка стволом. Очнувшись, она безучастно посмотрела по сторонам, затем, поднявшись, спокойненько обогнула меня и, не веря своему счастью от такого исхода встречи с «человеком с ружьём», не торопясь и не оглядываясь ни на меня, ни на Алтая, минуту назад готового её растерзать, без спешки скрылась за моей спиной в кустарнике. Алтай же, проводив рыжую взглядом, перевёл свой взор на меня – и не знаю, показалось мне это или нет, но столько было теперь в этом «тёплом» взгляде укоризны и ещё чего-то такого, что можно передать фразой «Эх, ты, охотничек! Бегаешь тут… (неразборчиво) … язык на плечо, стараешься для вас…». Или что-то похожее на это, но пожёстче – русского-то языка он за свою собачью жизнь наслушался вдоволь. После чего он презрительно развернулся и побежал в ту сторону, откуда пару минут назад выгнал на меня так счастливо отделавшуюся лису.
Да, в этой ситуации Алтай, наверное, был прав. Он, во-первых, и так переборщил в своём старании сработать по максимуму и чуть даже ни подмял лису у меня под стволом, рискуя в горячке преследования самому попасть под выстрел, а, во-вторых, – промахнулся ты или по какой-то причине вообще не выстрелил – дальше гнать не стал, поскольку он своё дело сделал: доставил потенциальную добычу к месту назначения – ты охотник, ты теперь и разбирайся!
…Время было послеобеденное, да и вообще темнело рано. Папин голос скликал нас собираться возле него, поэтому я взял винтовку на ремень и пошёл к нему. Четыре зайца-беляка составили нашу общую добычу. Папа спросил меня, чего это я кричал? Я честно рассказал о не вовремя переругавшихся воронах и каких-то мелких птахах, о незаряженной винтовке, о лисе и об Алтае. Мой рассказ позабавил слушателей, но не вызвал никаких нареканий – чего только на охоте не случается!, – а дал лишь повод для незлобивой иронии и шуток, которые сделали незаметным наш обратный путь до деревни. Красавец и труженик Алтай был, похоже, доволен проведённым с нами временем, а историю со мной и удачливой лисой, видимо, решил тут же забыть, поскольку, делясь своей радостью от участия в охоте, не обходил своим вниманием и меня. Встретивший нас у калитки хозяин, тоже довольный, улыбаясь, потрепал его по холке: «Ну, что? Сбил дурь-то? А то замучил меня своими переживаниями. Всё на охоту рвался!» И, приняв от нас в знак признательности двух зайцев, – один для него, другой для честно отработавшего свой хлеб Алтая, – пригласил приезжать почаще, хотя бы, вот, по первой пороше – должен же снег когда-нибудь наконец выпасть, уж скоро декабрь пожалует!
Мы попрощались с нашими гостеприимными хозяевами. Алтай стоял рядом и несколько недоуменно смотрел на нас: куда это, мол, вы собрались? завтра опять бы зайцев погоняли. «Увидимся ещё и поохотимся!» – помахали мы на прощанье нашему симпатичному помощнику и двинулись к станционной платформе, где дождались пригородного поезда и уехали домой.
Следующий день был понедельник. С утра папа ушёл на работу, а я в школу. На уроке русского языка учительница дала нам домашнее задание – написать сочинение на одну из трёх тем, среди которых была и свободная. Я не стал раздумывать – так мне хотелось рассказать всем о вчерашнем случае – и, хотя сочинение было задано не к завтрашнему дню, прибежав после школы домой, поел, сделал все уроки, не пошёл во двор к друзьям, а примостился за столом и принялся излагать на страницах ученической тетрадки в линейку о том, что произошло со мной на охоте. Пришёл из школы старший брат, попытался поговорить со мной, хотел заглянуть в тетрадку, которую я решительно прикрывал рукой, а потом отстал и занялся своими делами.
В назначенный день я вместе с одноклассниками положил своё сочинение на учительский стол. Прошло ещё два или три дня, и на очередном уроке русского наша учительница, держа кипу тетрадок, сказала следующее: «Ребята, я сейчас раздам вам ваши сочинения, и вы сами увидите ваши оценки, но одно, – она подняла вверх голубую тетрадку, – я прочитаю вам вслух!»
И прочитала всему улыбающемуся классу мой первый рассказ о счастливой лисе.
НЕСОCТОЯВШИЙСЯ УРАН
Папа лежал в больнице и его сосед по палате, узнав, что он заядлый охотник, предложил ему своего молодого спаниеля. Сам хозяин не был ни собачником, ни охотником, а спаниеля кто-то подарил ему маленьким щенком, без всяких документов, и он был бы рад, если бы эта будущая охотничья собака попала в надежные руки и использовалась по своему природному назначению. Папа посоветовался со мной – я уже был взрослым парнем и тоже увлекался охотой, – и мы решили, что не мешало бы посмотреть, на что способна эта собака, прежде чем согласиться на такое заманчивое предложение. Понравится в деле – возьмем, нет – вернём. Сделать это можно было уже скоро, поскольку через неделю, в первых числах сентября, открывался осенний сезон охоты на пернатую болотную и боровую дичь, а этот вид охоты был нашим любимым. Папа сообщил наше условие хозяину спаниеля. Тот отнесся к нему с пониманием и с радостью согласился.
На следующий день я отправился за собакой. Её владелец ждал меня на улице возле своего дома, с трудом удерживая на поводке рвущегося в разные стороны и стелившегося по земле крупного ушастого и шерстистого черно-белого спаниеля. «Вот, – сказал он, – познакомьтесь. Это Уран. Русский спаниель. Собака хорошая и умная. Забирайте, но только держите крепче!» «А ему точно полгода? – засомневался я. – Что-то он крупноват для такого возраста». «Точно, точно, это порода такая», – ответил хозяин, и, словно спеша отделаться от своего питомца, передал мне поводок. Потом вспомнил и отдал намордник, сказав, что вообще-то он смирный, не кусается и всех любит, но при поездках в общественном транспорте может потребоваться.
То, что вручаемый мне спаниель «всех любит», я понял по тому, как он сразу же проникся ко мне, незнакомому человеку, тут же облобызав мне руки и норовя лизнуть в лицо, когда я наклонился, чтобы для знакомства потрепать его черно-белые кудри. «А что он ест?» – крикнул я вдогонку попрощавшемуся со мной и спаниелем хозяину и услышал краткий и обнадёживающий ответ: «Да всё!» Уход хозяина нисколько не взволновал Урана. Он тянул меня в разные стороны и всё также стлался по земле, собирая мусор длинными ушами. На всякий случай я не сунулся с ним в общественный транспорт, а, держа его на поводке, пошел пешком.
Когда я открывал дверь квартиры, Уран был вне себя от радости, как будто он возвращался в свой обжитый им домой. Отстёгнутый с поводка, скользя по дощатому полу, он влетел в прихожую, моментом обежал незавидный двухкомнатный метраж нашего незнакомого ему семейного жилья и закончил свой обзор тем, что в гостиной махом, со всем нацепленным на него мусором и грязью, взлетел на диван и распростерся там, смешно, по-лягушачьи раскинув в стороны задние лапы и умиротворенно положив морду на передние. Пришлось ему указать, что его место будет возле входной двери, куда я заранее положил тканный коврик, и применить некоторую силу, чтобы стащить его вниз на пол. Такое отношение к себе ему явно не понравилось, но он быстро успокоился и принялся бродить по квартире, продолжая осматривать её. «Так, – подумал я, – пёс, видать, совсем домашний, но спаньё на диване мы запишем ему в минус. Посмотрим, как пойдёт дело дальше. Вот, выедем в поле…».
День выезда в поле на охоту пришёл быстро. Папа к этому времени был выписан из больницы, вполне здоров, и мы втроем – с нами был ещё наш добрый друг и верный соратник по охотничьим делам – погрузились в пригородную электричку, чтобы к вечеру быть уже на месте, а с утра, на зорьке открыть осенний сезон. В те далекие годы личный транспорт был редким явлением, и мы как раз представляли такое «безлошадное» большинство, так что при поездках на охоту или рыбалку на общественном транспорте вынуждены были ограничивать себя только самым необходимым. Поэтому везли мы с собой, помимо ружей и припасов к ним, палатку, теплые вещи – в сентябре погода у нас могла быть всякая – и еду. Уран, разумеется, тоже был с нами в этом пробном для него выезде на охоту. Он радостно суетился, лез с предложением дружбы к проходящим пассажирам, пытался взгромоздиться на жесткое деревянное сиденье, где сидели мы, пока не был водворен под скамью, утихомирился и к нашей радости сладко задремал там под стук вагонных колёс.
Ехать было чуть меньше часа. На безымянном полустанке, где электричка нехотя остановилась и практически в ту же минуту, звякнув своим зеленым металлическим телом, начала медленно отходить, мы спрыгнули на некое подобие платформы, едва успев сбросить на неё рюкзаки и держа зачехленные ружья на ремнях за спиной. Уран, струхнувший перед высотой от тамбура до платформы, был принудительно десантирован нами вместе с рюкзаками.
От домашней постройки обходчика на другой стороне железнодорожных путей послышалось ленивое и краткое тявканье. Уран и ухом не повёл – вступать в перебранку с невидимым собратом ему явно не хотелось, да и не для этого он сюда приехал. Он был на поводке, рвался в разные стороны, мёл ушами землю, втягивал в себя абсолютно новые для себя запахи окружающего негородского мира и казалось ощущал, что сейчас начинается что-то очень для него интересное. Мы пересекли жиденькую лесозащитную полосу и вышли на степной простор.
Край, в котором я тогда жил, согласно учебникам географии относится к лесостепи, хотя для точности я бы поменял местами в этом названии его составляющие, поскольку степей здесь значительно больше, чем лесов, разбросанных редкими островками. Местные жители называют их «колками», с ударением на первом слоге. К одному из них – километрах в трёх-четырех от полустанка – с небольшим озерком по краю, который в прежние выезды сюда облюбовал наш друг, мы и направились.
На больших же озерах, которыми тоже богаты эти степные просторы, солёных и пресных, неглубоких и сильно поросших камышом, осенью скапливались огромные пролетные табуны уток и гусей, и охота по своей добычливости была просто фантастичной. Но для неё требовались лодки, как правило неширокие и остроносые вёсельные плоскодонки, хотя среди озёрных камышей удобнее было орудовать длинным шестом (или по-местному – «тычкой»). И это всё нужно было доставить на озёра. Охотники чаще всего сговаривались и нанимали для этого грузовую автомашину. Делали это еще с лета, поскольку осенью, когда зарядят серые дожди, проехать по здешнему бездорожью было нелегко, а то и просто невозможно. Нанимали и какого-нибудь жителя из близлежащей деревни для присмотра за этим хозяйством. Поэтому мы, безлошадники и безлодочники, и решили в этот выезд держаться поближе к железной дороге, откуда и пешком дойти до места охоты небольшая проблема, да и домой вернуться не трудно. Что же касается «птисы» (так здешние «аборигены» произносили слово «птица», имея в виду уток), то её и на малых вот таких озёрах-болотцах было всегда вполне достаточно для хорошей охоты – во время вечерней и утренней зорьки в поисках ночёвки и кормёжки она начинала челночить между степными водоёмами. И это время, время перелётов, было самым желанным и добычливым для всех знающих охотников.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.