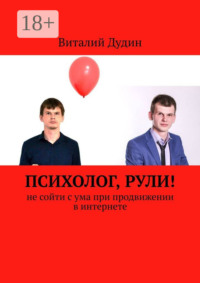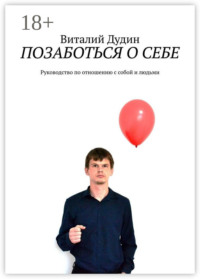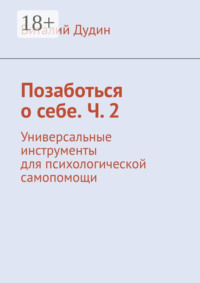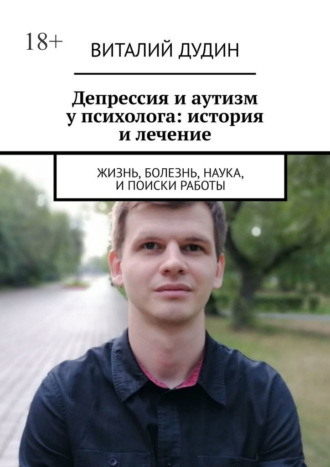
Полная версия
Депрессия и аутизм у психолога: история и лечение. Жизнь, болезнь, наука, и поиски работы
Также я старался изучать и ремонтировать технику. Было как-то радио или телевизор, кажется, разобрал и отремонтировал. Случайно вышло. Ещё одна из наших дач была расположена совсем рядом с аэропортом, и дедушка там работал. Поэтому мне подвернулась возможность полазить в настоящем большом лайнере, то есть самолёте-экспонате, который стоял возле аэропорта. В нём не было обшивки, остался каркас салона, торчали провода, трубки, кабели… Можно было вылезти на крыло. Я конечно и тогда радовался такой возможности, но и сейчас понимаю, что это было вообще прекрасно, я бы и сейчас туда залез. Мне нравятся самолёты, сам полёт, так ещё и была возможность увидеть и стащить для себя непонятные небольшие механизмы, агрегаты, изучить их.
Ездить за рулём на машине конечно тоже очень нравилось. Обычно я водил, когда мы ездили в лес за грибами или на дачи. И если в лесу я гонял по просёлочной дороге, то в сторону дачи дедушка давал мне вести даже по трассе. Такое доверие было приятно. Также я уверенно себя чувствовал, когда можно было гонять по размытой дождями дороге, а дедушка спокойно сидит себе, окно открыл, пассажир типа… Да, грибы собирать! Особенно нравилось собирать лисички – потому что они красивые, вкусные и растут классно, если нарвался на одну лисичку, то понятно, что наберёшь их много. После грибов поесть на поляне, чай попить – умиротворение.
Из спортивного: я умел быстро бегать на короткие дистанции, и далеко прыгать с места и с разбега. Как-то вот мне с этим повезло, так, что не встречал никогда кто быстрей бегает или дальше прыгает ни в школах, где учился, ни потом в университете. Приятно с этим жить. Есть у меня такое ощущение, когда бег начинаю, будто я могу «пятую» сразу включить, что ветер начинает в ушах появляться.
Также при моей жизни появился персональный компьютер, который уже предлагал игры и другие программы. Помню из игр, которые мне нравились следующие: «Зевс», «Эпоха империй 2», «Засранцы против гаи», «Дальнобойщики 2», «Небывальщина». Особенно приятно было проводить время за компом, когда на улице мороз. А когда вышел мультик «Масяня», то я узнал в какой программе он создаётся («макромедия Флэш»), и на долгое время она меня заинтересовала, я всё разбирался как происходит чудесное – как моя мысль может быть перенесена на экран компьютера и ещё быть подвижной (динамичной). Помню тренировался и рисовал какую-то таблетку, которая катилась и скакала. И отдельно у меня выделяется игра «Контра» – игра в которую я начал играть в Петропавловске ещё юным и продолжал периодически уже в Тюмени. С ней много было связано воспоминаний. Даст, Ассаульт, Мэншн – открывая эти карты я будто переносился в те прошедшие времена своей жизни. К тому же мне бы не пришло в голову играть в неё трезвым, поэтому в изменённом состоянии сознания она дарила мне приятные ощущения и ностальгию.
Возвращаясь к интересам в области музыки есть смысл рассказать о моём обучении игре на фортепиано. Хоть обучение строго говоря не относилась к моим подлинным интересам, а было больше воплощением родительских представлений о человеке культурном, тем не менее это занимало достаточно много моего времени. Учился я 3 класса (3 года). Ко мне домой два раза в неделю приходила бабушка из музыкальной школы давать уроки фортепиано, и почти каждый день я выполнял домашнее задание. Если в общем, то я не хотел учиться, если в частности, то иногда меня всё же увлекала игра на этом инструменте. Но вообще моя душа и нервная система тяготели к электрогитаре. На ней я сам учился играть в эпоху бумажных сборников с аккордами и «табов» из интернета, то есть ещё до эпохи ютуба и прочих приложений. Мне нравилось ощущать гитару в руках, нравилось, что струны издают звук у меня на виду, нравился корпус гитары, ощущения на кончиках пальцев и, конечно, возможность извлекать из неё «грязный» тяжелый разный звук, противоположный «стерильному математически точному» звуку фортепиано. И ещё пианино – это одинаковые на вид и на ощупь чёрно-белые гладкие клавиши и всё тебе. Все струны и молоточки спрятаны внутри. Музыкант как пользователь, а не как владелец инструмента, будто никакого «общения» с инструментом. Всё же время шло, я учился, и выучился до логического для себя завершения. Я научился нотной грамоте и натренировал слух, что и на гитаре играть и строить, и жить помогает. А прямо перед переездом в Тюмень пианино я продал.
Из речно-озёрных интересов мне очень нравилась и рыбалка на удочку. Первое знакомство с удочкой произошло, когда мы с отцом поехали рыбачить возле дамбы, точнее за ней. Получается мы ловили встревоженную рыбу, которая пару сотен метров вверх по течению упала сверху вниз с высокого искусственного водопада, и тут её ещё и поймали – слишком много событий подряд для рыбки. Да, сидеть, смотреть на поплавок водной глади, искусно отличать различные причины покачиваний поплавка – от волн и/или ветра или от поклёвки. А затем определять лучший момент, чтобы тащить, не спутав «хитрое» ловкое клевание от настоящей поклёвки. Помню, как ещё меня удивили события, которые будто нереальные, когда я поймал рыбу на пустой крючок, когда перезакидывал удочку, или поймать ерша за спинной плавник – как это вообще – не понимаю, но так удивительно.
Были и интересы, связанные с изобретательством. Когда я был юн, то хотел сделать машину, преимущественно из дерева. Помню, как в голове крутились стратегии о том, как она будет приводится в движение, как будет сделана система отопления и вплоть до того, какой в ней будет бардачок. В том возрасте я полагал, что реализую хорошее такое инженерное решение – создам печку в машине. Всё кажется простым, но до такой идеи нужно было дойти, как я считал. Примерно так: ставлю вентилятор, а перед ним плотную, тёплую (может и шерстяную) ткань: вентилятор гонит холодный воздух через ткань, в ней воздух прогревается и выходит тёплым. И уже в более позднем возрасте, я понял, что одежда не вырабатывает, а сохраняет тепло тела. В частности, возможно из-за таких детских особенностей мышления, я и оставил идею строительства машины на стадии её сколоченного каркаса на крыше домика на «фазенде».
Книжки я не любил читать. Но были несколько излюбленных, например, толстая такая энциклопедия родом из СССР – узнавать значение незнакомых слов – это увлекательно. А из книг, которые способны были перенести меня в приятное состояние была серия про древность с классными иллюстрациями, которые, кстати, тоже были составлены в логике энциклопедии. Кажется, они назывались примерно так: «Как бы ты жил в древнем Риме», «Как бы ты жил в древнем Египте», «Как бы ты жил среди викингов». В том же далёком возрасте у меня проклёвывалось что-то вроде стремления рассказывать истории, в том числе в письменном виде. Так, однажды нам задали написать что-то на свободную тему, и я описал как мы с родителями подобрали собаку на улице, потом эта собака с нами жила, и развернул целое рассуждение что-то там о собаках и людях, о поступках, вообщем интересно получилось, учительница даже написала возле оценки, что я молодец, а дедушка ещё в те годы где-то отыскал человека, который перепечатал этот рассказ, и выпустил на принтере. Приятно было и было ощущение, что тут кроется что-то моё, что-то к чему я неравнодушен.
Из мультфильмов, сказок и сериалов мне точно нравились: «Том и Джерри», «Простоквашино», «Жил-был пёс» (это «ты заходи, если что…») и сказки на новогодних каникулах. А не нравился «Ну, погоди!» – ощущение, что нарисован он был сильно пьющим, курящим, и неинтересным как личность гражданином советского союза на неуютной холодной кухне с синей плиткой на стенах. Про мартышек ещё мультфильм был, про пиратов, и тоже мне не нравился «дух» этих мультфильмов. Очень нравился «Альф», «Маска». Боялся, но смотрел Фредди Крюгера. С бабушкой и дедушкой любил смотреть «Поле Чудес», грустил в конце программы, когда Леонид Якубович говорил заключительные слова, так как хотелось продлить это ощущение домашнего уюта. Позднее, лет в 12—13 любил смотреть «MTV» и каналы, где под рок музыку показывали разные экстремальные спортивные и красивые видео.
Очень трудно сейчас вспомнить подробности, но у меня вызывало интерес то, что называется душа или психика. Поведение некоторых людей вызывало вопросы, хотелось понять почему они поступают так, а не по-другому, почему некоторые странные. И в моей голове было так много разных состояний, которые я стремился понять, исследовать их. Это ощущалось мной как приятное желание познавать, исследовать, «рассекречивать» то, что связано с душой, устройством человека и общества. Жаль, не могу вспомнить какими словами я бы тогда описал свой интерес. Но, вероятно, больше всего меня привлекали патологические проявления психики. В памяти всплывают несколько случаев, которые, конечно, не исчерпывают весь интерес к душе.
Помню, как возле магазина «Универсам», где мы часто любили тусить с друзьями я увидел голую, и скорее всего бездомную женщину, она шла себе куда-то медленно, была запачканной и, вероятно в состоянии алкогольного опьянения. Я мальчик то умный, в школе меня учат писать, читать, считать. А вот что общество людей может и такие удивительные вещи выдавать меня этому никто не обучил. Объяснение по типу: «ну она, наверное, болеет», или «она, наверное, пьяна» – никуда не годятся, это и ежу понятно. Меня интересует как так вообще вышло? Столько людей, такое складно сложенное общество, все друг на друга похожи, ходят на зелёный, стоят на красный, в туалет ходят в туалет, а тут на тебе. «Молекула» общества взяла и выпала из причёсанного строя – голой, говорит, хочу пройтись, лето ведь. Для меня это интересный такой «сбой» в системе общества, и в голове одного человека, который захотелось исследовать.
Другой случай – это женщина, возрастом переходящая в бабушку, она была дворником в моём дворе, и была, кажется, глухонемой, и скорее всего со значительными нарушениями умственного развития. Я тогда был ну совсем маленьким, поэтому воспоминания обрывочны. Но главные из них, что мы с моими тогдашними знакомыми её задирали и убегали. Она носилась за нами и произносила нечленораздельные звуки. И помню, как мне было её жаль, и тогда тоже хотелось понять, как так с ней вышло, о чём она думает, переживает. Но моего поведенческого репертуара хватало тогда только на то, чтобы быть на второстепенных ролях в процессе её задирания.
Другой случай, да простит меня одноклассница, что я её упоминаю, но надеюсь, она никогда не прочитает этого. Была красивая девочка, с красивым именем. Но с фамилией «Свинобой». Боже мой, это кому в голову могло прийти такую фамилию придумать?! Ладно, пусть это в какое-нибудь там средневековье она взялась, потому что кто-то забивал, бил, колол или что он там делал со свиньями. Сказал он «горжусь я тем, что я делаю, отныне зовите меня (Имя) Свинобой!». Ну так в средневековье бы и оставили его. А как эту фамилию пронести через поколения можно? Зачем девочке в моём классе, где у всех фамилии как фамилии знать, что она Свинобой. За партой сидишь, и на тебе шматком сальной жирной свиной кожи! Родители девочки, ау, Папа-Свинобой, ку-ку! Фамилию поменять можно ж. Но нет, – Мы – Свинобои всем свинобоям свинобои, а не какие-нибудь там Синицыны или Петровы! Иди дочь в школу, неси гордую фамилию в журнал на перекличку. Два вопроса для исследования тут возникли у меня: почему родители девочки не изменят фамилию, и как девочка совладает с чувством стыда за свою фамилию.
Другой интерес из области психологического – сны и состояния перед засыпанием. Что это вообще такое за явление: я засыпаю, отключаюсь, и там мне какое-то кино или мультфильмы начинают показываться, да ещё на таком странном «языке», снятые странными непоследовательными, нелогичными и через чур загадочными «режиссёрами». Откуда они вообще и зачем они мне. Вот ноги, например, мне нужны чтобы ходить, это я знаю. А сны мне зачем? Ладно бы так развлечения безобидное, но ведь есть ещё и кошмарные сновидения. А они то зачем? Мне что наяву проблем мало? И почему вот перед сном страхи какие-то, то мне ноги нужно укутать максимально под одеяло, чтобы там не проник никто в темноте, чудище никакое, то мне возле окна засыпать страшно. Ещё в том далёком возрасте я вроде и боялся, но одновременно понимал, что это ерунда какая-то прилипла ко мне, страхи эти непонятные, что-то неестественное.
Ещё одна микроситуация произошла, когда я только начал ходить на акробатику. А там большое незнакомое помещение, народу много. И вот на каком-то из первых занятий основного тренера подменяет другой. Стоим мы в шеренге, и он командует что-то невнятное для меня, даже сейчас то не воспроизведу с полной уверенность, но нужно было носки ног развести друг от друга на длину своей стопы. А я не понимаю, что он хочет, у меня шум в голове, и я замешкался и развёл носки широко. Подходит и давай орать, типа: «у тебя что 41 размер ноги?», и ещё что-то там продолжает. А мне тогда до 41 было расти и расти. И тогда мне, наверное, страшно то стало, неловко тоже, но точно помню, что и гнев я испытал тогда, подумал «ты что орёшь, придурок!». Тоже интересно стало, почему этот конь решил вдруг орать на меня. …что в его башке позволило и/или заставило себя так вести. Это что за социальная ситуация произошла, что мне от неё так скверно стало.
Другая история связана с тем, что во дворе обычной пятиэтажки, где жили мои бабушка и дедушка, в небольшом низкорослом палисаднике напротив подъезда, какие-то родители периодически обливали свою дочь, мою сверстницу, водой из ведра. Когда они выходили, она уже была голой, её окатывали водой, потом вытирали. Я видел её как зимой, так и летом. Ладно, причина такого поведения казалось бы лежит на поверхности – это закалка организма. Но два вопроса. Один не совсем интересный, но всё же: это единственный способ закалять организм: именно голой надо быть и именно во дворе, то есть на глазах у людей? Второй вопрос интереснее. Когда я видел эту девочку, я не мог оторвать от неё взгляд, она была красива собой, её манера стоять и двигаться, реакция на обливание… Меня к ней неописуемо тянуло. Это тоже были мои новые, неясные, но приятные и интересные переживания. Также, как и с вышеописанным мне захотелось понять, что это.
Ещё вспомню пару историй, описанных в книжках, над которыми я призадумался. Истории были такие мораль-ориентированными для детей. Сюжет первой разворачивался в школе. Один мальчик на перемене обнаружил, что у него нет еды, чтобы перекусить, хотя обычно она у него была. О существовании столовой там не упоминалось. И вот его одноклассники повели себя примерно следующим образом: один сказал что-то вроде: «ну, наверное, ты обронил еду где-то по пути в школе», другой сказал: «ну нужно аккуратнее и внимательнее быть, чтобы так не получалось у тебя». А третий ничего не сказал, он просто отломил половинку своего бутерброда, и поделился с ним. Мораль: третий молодец мальчик, будьте как он. Но только вот у меня как-то не сходилось в голове. Сейчас можно сказать, что авторы-моралисты как-то не оставили возможности для других вариантов. Например, что если я не поделюсь, то я плохой? Можем ли мы обсуждать мотивы (причины) такого моего поступка? Или только «чёрное» и «белое»? Да и странно, как же первых двух мальчиков Земля вообще носит, если они так поступают. Ладно Земля, пусть она неразборчива, как их наше общество носит тогда? Вообщем от этой морали у меня осталось неприятное ощущение. Легко было бы примкнуть в третьему добродетелю, ассоциироваться с ним, но это слишком поверхностный подход. Поэтому вот мне и материал для размышлений нашёлся. И в другой описанной ситуации материала тоже было достаточно. Вот она: события скорее всего происходили в деревне. Сидит большая семья и ест. На вид все здоровые, молодые, воспитанные, щеки румяные, жуют с закрытым ртом. Где-то на отдалении сидит очень сильно старый дед, он не за столом, а где-то так его поместили, чтобы другие здоровые и молодые не слышали, не видели, как он чавкает, как у него из «дырявого» рта еда протекает, не видели его сморщенное лицо и прочее. И тут появляется или новый персонаж или у кого-то из ранее присутствующих совесть взыграла, и он начинает отчитывать семью за то, что они с дедом как не с человеком обходятся. Стыдить всех начал, заслуги деда перед собравшимися перечислять. Вроде бы он даже вернул деда за стол. А я автоматически то вроде и подключился к такой теме, что же это за несправедливость, почему дедушка одинокий старый больной там сидит, а вы лбы здоровые молодые как свиньи с ним… Но и тут такой морально однобокой ситуация не может быть. Если уж авторы басни такие гуманисты, то как быть мне – ребёнку, которым я тогда ещё являлся, когда я вижу очень старое сморщенное тело, еду стекающую по щекам, запах этот… То есть морально правильно сделать так, чтобы за эту всю нестыковку заплатил ребёнок? Типа «Так, деда жалко, он воевал, да и дом его, давай его за стол посадим с ребёнком, пусть ребёнок страданёт, там все более-менее в выигрыше останутся, не считая ребёнка, он же не станет ещё права качать, мал». Но, а то что ребёнка будут жуткие чувства раздирать в этот момент – это ничего. И не от того, что ребёнок избалован, эгоист или просто козёл, а от того, что природа сама так распорядилась, чтобы в глазах смотрящего ребёнка вид глубокой старости или даже визуальное воплощение смерти не вызывали в нём симпатию и глубокое уважение. Кончено, эти книжные ситуации являются вроде как попыткой привить доброе, чистое, светлое. Но учитывая, что они уже не выдерживают критики человека, даже не достигшего десятилетнего возраста, значит, что взрослые как-то уж сами наивны, однобоки и не так уж умны, чтобы нормально проиллюстрировать свои учения ребёнку. Так это тоже стало интересным для исследования.
Другое, что витало в воздухе, в обществе и вызывало интерес – это религиозное – вера в бога, доводы в пользу его наличия, интерпретация явлений и поступков людей, основанная на вере в его наличие и пр. Далеко не сказать, что моя семья была религиозная, разве что мать иногда посещала и посещает церковь и знает несколько молитв. Так сложно вспомнить сейчас, но где-то совсем в начале мне нравилась идея наличия высшего существа, но когда несколько раз в тяжёлых для меня ситуациях на мои просьбы о помощи никакой реакции не последовало, само собой я усомнился, а потом и вовсе с меня спали чары. И столько много логически необоснованных, кричаще противоречивых и с потолка взятых допущений я обнаружил в этой идее божественного, что вопрос верить или нет быстро отпал. Но встали два других очень важных вопроса. Первый – как жить то мне, если сверху никто не поможет? Ждать, терпеть, молиться, стараться понять замысел, каяться, перефразировать свою просьбу сто раз – это сразу не ко мне, спасибо. Это же альтернативная концепция картины Мира должна какая-то быть у меня. Но её нет пока. От этого нелегко. Надо придумать. Второй вопрос – если идея религиозного мной отвергнута, так как не прошла проверки обыденной человеческой логикой, то почему же в обществе столь обширен «религиозный рынок», и почему у этого явления так много поклонников? …вопросы, которые также были подвешены у меня в сознании и хотели быть разгаданными. Рядом с этими вопросами были и на тот момент недавно свалившиеся на мою голову вопросы моей смертности и смертности моих близких. Тут, наверное, даже и необязательно проявлять интерес к психологии чтобы зависнуть на некоторое время от такой новости, а скорее не новости, а осознания, но тем не менее, я завис по-своему, и кроме переживаний беспокойства это вызывало у меня и ростки исследовательского интереса к феномену смертности и того как с этим совладать, когда итог ясен. Сопровождался вопрос смертности и моими столкновениями со смертью других людей. Так, я в разное время мне довелось видел трёх мёртвых мужчин вне гроба и вне спокойной церемонии похорон – одного в подъезде, второго под трубами в кустах, третьего под одним из непарадных крылец моей школы. Ещё маленького мальчика, которого насмерть сбил троллейбус, хотя в момент аварии моя мать отвернула меня в другую сторону, но я помню крик матери мальчика. И к тому возрасту я уже был научен, что в обществе жизнь человека – это ого-го! Сам человек – это большое творение природы! И раз так, то и умирать они, казалось бы должны как-то величественно что ли. Но нет. В кустах под трубами лежит себе спокойно в обычной поношенной одежде, он лежит, а все дальше живут. В подъезде также, и под крыльцом, и на перекрестке с троллейбусом. Всё так прозаично и приземлённо. То есть мало того, что итог ясен – смерть, так она ещё к людям чуть ли не в домашних тапочках приходит, без церемоний, просто как такие рабочие моменты Мироздания. Пришла, кролика забрала, пару свиней, корову старую, синичку, и мальчика – как-то так примерно, и все они в одном списке у неё были. Да ещё и смерть приходит невзирая на маленькие человеческие радости жизни, так моя бабушка по отцу умерла в день его рождения. К этому же тоже теперь нужно было выработать подходящее отношение. А по пути и само общество открывало свои малопонятные, и на тот момент для меня возмутительные стороны. Существуют же плакальщицы на похоронах. Это ещё что такое? Не хотят – пусть не плачут, захотят – так поплачут сами. Как в такое интимное сокровенное мероприятие люди умудряются запихивать театральность наигранность, коммерцию и эти искусственные слёзы, стоны?
Интересное психологическое, вызывающее у меня вопросы без ответов я также находил в поведении животных и отношениях между людьми и животными. Почему если с собакой дружишь, то она всё равно рычит, если приближаешься к её миске, когда она ест. Что нельзя отменить свою «природой записанную пластинку», и поверить, что я не претендую на еду? Кошка спокойно реагирует, а собака – нет. Другая ситуация: приехал как-то щенок к нам на фазенду, я захотел с ним подружиться, а он на меня гавкал не останавливаясь очень и очень долго. В конце дня он уже просто не мог отрывисто гавкать как собака, а практически русскими звуками произносил «ава-ава». Так видимо легче. Для протокола: я его не тискал, не пугал, а просто сидел недалеко от него в сенках, и делал попытки с ним поговорить – точнее интонацией голоса дать понять, что я нормальный и не представляю для него опасности. С другими собаками и до и после я находил общий язык. И с ним мы подружились, и он у нас прожил несколько лет, и на фазенде, и на работе у отца. Но вопрос уже возник: что это было за явление, которое помешало нормально общаться почти сразу? Ещё одна ситуация: мы завели волнистого попугая. Это попугаи, размером с воробья, которых можно научить разговаривать. Но нас не хватило на это. Когда в комнате работал телевизор – попугай чирикал без остановки. Делаешь телевизор громче – попугай чирикает громче. К сожалению, лично у меня воодушевление от появления в доме удивительного жителя довольно скоро сменилось раздражением. И не у меня одного, поэтому вскоре мы отдали попугая в хорошие руки, с клеткой и со всем его имуществом. Не знаю, тут возможно ситуация не совсем про животное, а про взаимоотношения людей с животными. Хотя нет, не только. Меня помню тогда расстраивал тот факт «умпрямости» и тугоподвижности природы. Мы ведь тысячу разных способов его уговаривали не чирикать, но он чирикал. Жалко было принимать факт, что некоторые живые существа будто только номинально живые, и не могут вступить в контакт с человеком, не способны менять своё поведение – как природа ему велела чирикать, так он и делает, не пересматривая ничего и не лазая в свои настройки. А так хотелось, чтобы такой красавец ещё и мог хоть чуточку понимать человека.
Следующая ситуация: у нас жили кошка и собака на фазенде. Характер и отношения у них были типичные: кошка важная и местами истеричная, собака наивная по отношению к кошке, добрая со своими и злая с чужими людьми. Они, наверное, уважительно относились к факту, что делят один дом на двоих, но дружбы у них точно не было. Один раз кошка окотилась, когда на улице было ещё холодно. Котята были в сенках, кажется. Сколько-то дней прошло, она ухаживает за котята, всё нормально. И в один день я и дедушка пришли на фазенду, а там случилась какая-то чертовщина. Насколько я помню, мы тогда поняли, что или собаки на неё напали или коты, или кот, что скорее всего. Ужас какой-то. Но, я, когда пришёл туда, помню чувство, что попал на место преступления. Прям в воздухе было напряжение, и вид у кошки и собаки встревоженный, потрёпанный. Кошка кажется двоих котят затащила к нашей собаке в будку для защиты. А один или два котёнка умерли. И тех, кого она затащила мы в начале за мёртвых приняли, потому что они были как ледышки, но потом оказалось, что живы и их отогревали долго. Суть здесь для меня важной и интересной оказалась, что наши кошка и собака в катастрофической ситуации поступили так мудро, взвешенно. Само по себе представляет ценность, что я стал непосредственным свидетелем того, как животные проявили способность к взаимопомощи. И, конечно, теперь всегда в поле моего интереса входят подобное поведение животных, выходящее за рамки «животного инстинктивного поведения».