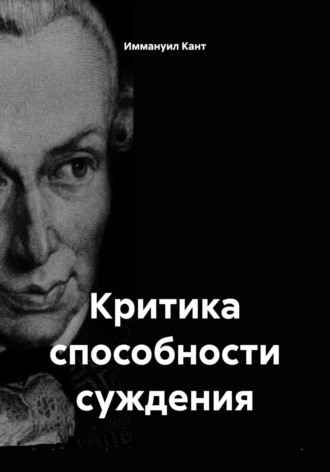
Полная версия
Критика способности суждения
Этот принцип может быть только следующим: поскольку всеобщие законы природы имеют свой источник в нашем рассудке, который предписывает их природе (хотя лишь по общему понятию о ней как природе), то частные эмпирические законы в отношении того, что в них остается неопределенным этими всеобщими законами, должны рассматриваться согласно такому единству, как если бы их тоже дал рассудок (хотя и не наш) ради нашей познавательной способности, чтобы сделать возможной систему опыта по частным законам природы.
Не то чтобы нужно было действительно предполагать такой рассудок (ведь это только рефлектирующая способность суждения использует эту идею как принцип для рефлексии, а не для определения); но эта способность дает этим закон самой себе, а не природе.
Поскольку понятие объекта, поскольку оно содержит также основание действительности этого объекта, называется целью, а соответствие вещи той характеристике вещей, которая возможна только по целям, называется целесообразностью ее формы, то принцип способности суждения в отношении формы вещей природы под эмпирическими законами вообще есть целесообразность природы в ее многообразии. То есть природа представляется через это понятие так, как если бы некий рассудок содержал основание единства многообразия ее эмпирических законов.
Таким образом, целесообразность природы есть особое понятие a priori, имеющее свой источник исключительно в рефлектирующей способности суждения. Ведь мы не можем приписывать природным продуктам нечто вроде отношения природы к целям в них, а можем лишь использовать это понятие для рефлексии о них в отношении связи явлений в природе, данной по эмпирическим законам.
Это понятие также совершенно отлично от практической целесообразности (человеческого искусства или даже нравов), хотя и мыслится по аналогии с ней.
5. Принцип формальной целесообразности природы есть трансцендентальный принцип способности суждения.Трансцендентальный принцип – это такой, через который представляется всеобщее условие a priori, под которым только вещи могут быть объектами нашего познания вообще. Напротив, принцип называется метафизическим, если он представляет условие a priori, под которым только объекты, чье понятие должно быть дано эмпирически, могут быть далее определены a priori.
Так, принцип познания тел как субстанций и изменяющихся субстанций трансцендентален, если он утверждает, что их изменение должно иметь причину; но он метафизичен, если утверждает, что их изменение должно иметь внешнюю причину, потому что в первом случае тело мыслится только через онтологические предикаты (чистые рассудочные понятия), например как субстанция, чтобы познать положение a priori; а во втором случае эмпирическое понятие тела (как движущейся вещи в пространстве) должно быть положено в основу этого положения, после чего можно a priori усмотреть, что телу присущ последний предикат (движения только через внешнюю причину).
Точно так же, как я сейчас покажу, принцип целесообразности природы (в многообразии ее эмпирических законов) есть трансцендентальный принцип. Ведь понятие об объектах, поскольку они мыслятся подчиненными этому принципу, есть лишь чистое понятие о предметах возможного познания опыта вообще и не содержит ничего эмпирического.
Напротив, принцип практической целесообразности, который должен мыслиться в идее определения свободной воли, был бы метафизическим принципом, потому что понятие способности желания как воли должно быть дано эмпирически (не принадлежит к трансцендентальным предикатам).
Однако оба эти принципа не эмпиричны, а a priori, потому что для связи предиката с эмпирическим понятием субъекта их суждений не требуется дальнейшего опыта, а они могут быть полностью усмотрены a priori.
То, что понятие целесообразности природы принадлежит к трансцендентальным принципам, можно достаточно усмотреть из максим способности суждения, которые a priori лежат в основе исследования природы и которые относятся лишь к возможности опыта, а значит, познания природы, но не просто природы вообще, а природы, определенной многообразием частных законов.
Эти максимы, как изречения метафизической мудрости, встречаются в ходе науки часто, но лишь в разбросанном виде, по поводу некоторых правил, необходимость которых нельзя доказать из понятий: «Природа берет кратчайший путь (lex parsimoniae); она, однако, не делает скачков ни в последовательности своих изменений, ни в соединении специфически различных форм (lex continui in natura); ее великое многообразие в эмпирических законах есть тем не менее единство под немногими принципами (principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda)» и т. д.
Но если попытаться указать происхождение этих основоположений психологическим путем, это совершенно противоречит их смыслу. Ведь они говорят не о том, что происходит, то есть по какому правилу наши познавательные способности фактически действуют и как судят, а о том, как следует судить; а здесь не получается этой логической объективной необходимости, если принципы только эмпиричны.
Следовательно, целесообразность природы для наших познавательных способностей и их применения, которая явно из них проистекает, есть трансцендентальный принцип суждений и потому требует также трансцендентальной дедукции, посредством которой основание так судить должно быть найдено в источниках познания a priori.
6. О связи чувства удовольствия с понятием целесообразности природы.Упомянутое соответствие природы в многообразии ее частных законов нашей потребности находить для них всеобщность принципов должно, по всему нашему разумению, считаться случайным, но тем не менее необходимым для потребности нашего рассудка, а значит, целесообразностью, благодаря которой природа согласуется с нашей целью, направленной лишь на познание.
Всеобщие законы рассудка, которые одновременно суть законы природы, столь же необходимы для природы (хотя и возникли из спонтанности), как и законы движения материи; их возникновение не предполагает намерения, связанного с нашими познавательными способностями, потому что только через них мы впервые получаем понятие о том, что такое познание вещей (природы), и они необходимо принадлежат природе как объекту нашего познания вообще.
Но то, что порядок природы по ее частным законам при всем их, возможно, превосходящем нашу способность понимания многообразии и неоднородности все же действительно соответствует ей, – это, насколько мы можем судить, случайно.
Обнаружение этих законов есть дело рассудка, направленное с намерением к необходимой цели – внести в них единство принципов; эту цель способность суждения должна приписать природе, потому что рассудок не может предписывать ей здесь никакого закона.
Достижение любой цели связано с чувством удовольствия; и если условием этого является априорное представление, как здесь принцип для рефлектирующей способности суждения вообще, то чувство удовольствия также определяется априорным основанием и общезначимо для всех: причем исключительно через отношение объекта к познавательной способности, без того чтобы понятие целесообразности здесь хоть сколько-нибудь учитывало способность желания и, следовательно, полностью отличалось от всякой практической целесообразности природы.
В самом деле, поскольку мы не обнаруживаем ни малейшего влияния соответствия восприятий законам согласно общим понятиям природы (категориям) на чувство удовольствия в нас, и даже не можем обнаружить, так как рассудок действует таким образом непреднамеренно, по своей природе необходимо, то, с другой стороны, обнаруженная совместимость двух или более эмпирически разнородных законов природы под одним объединяющим их принципом является основанием весьма заметного удовольствия, часто даже восхищения, включая такое, которое не прекращается, даже если предмет уже хорошо знаком. Правда, мы больше не ощущаем заметного удовольствия от постижимости природы и ее единства в делении на роды и виды, благодаря чему только и возможны эмпирические понятия, позволяющие нам познавать ее согласно ее частным законам; но оно, несомненно, было в свое время, и лишь потому, что самый обычный опыт без него был бы невозможен, оно постепенно смешалось с простым познанием и перестало замечаться. – Таким образом, требуется нечто, что в суждении о природе обращает внимание на ее целесообразность для нашего рассудка, – изучение возможности подведения ее разнородных законов под более высокие, хотя все еще эмпирические, чтобы, если это удастся, ощутить удовольствие от этого соответствия их нашей познавательной способности, которое мы считаем чисто случайным. Напротив, нам было бы неприятно представление о природе, которое заранее утверждало бы, что при малейшем исследовании за пределы самого обычного опыта мы столкнемся с такой разнородностью ее законов, которая сделала бы невозможным объединение ее частных законов под общими эмпирическими для нашего рассудка: потому что это противоречит принципу субъективно-целесообразного разделения природы на роды и нашей рефлектирующей способности суждения в ее намерении.
Однако это предположение способности суждения настолько неопределенно относительно того, как далеко следует распространять эту идеальную целесообразность природы для нашей познавательной способности, что, если нам скажут: более глубокое или широкое знание природы через наблюдение должно в конце концов натолкнуться на множество законов, которые никакой человеческий рассудок не сможет свести к одному принципу, – мы будем удовлетворены, хотя и предпочли бы услышать от других надежду, что чем глубже мы познаем внутреннюю природу или сможем сравнивать ее с пока неизвестными внешними звеньями, тем проще мы найдем ее в своих принципах и тем более согласованной при кажущейся разнородности ее эмпирических законов по мере прогресса нашего опыта. Ибо это требование нашей способности суждения – действовать согласно принципу соответствия природы нашей познавательной способности, насколько это возможно, без того (поскольку это не определяющая способность суждения, дающая нам это правило) чтобы определять, есть ли у этого где-то границы или нет: ведь хотя мы можем определить границы в отношении рационального использования наших познавательных способностей, в эмпирической области никакое определение границ невозможно.
6. Об эстетическом представлении целесообразности природы.
То, что в представлении объекта является чисто субъективным, т. е. составляет его отношение к субъекту, а не к объекту, – это его эстетическое свойство; а то, что в нем служит или может быть использовано для определения объекта (для познания), – это его логическая значимость. В познании объекта чувств оба этих отношения присутствуют вместе. В чувственном представлении вещей вне меня качество пространства, в котором мы их созерцаем, – это чисто субъективное в моем представлении о них (благодаря чему остается неопределенным, каковы они как объекты сами по себе), и из-за этого отношения объект мыслится лишь как явление; однако пространство, несмотря на свою чисто субъективную природу, все же является элементом познания вещей как явлений. Ощущение (здесь внешнее) также выражает чисто субъективное в наших представлениях вещей вне нас, но собственно материальное (реальное) их (посредством чего дается нечто существующее), подобно тому как пространство – чистая априорная форма возможности их созерцания; и тем не менее оно также используется для познания объектов вне нас.
Но то субъективное в представлении, что вообще не может стать элементом познания, – это связанное с ним удовольствие или неудовольствие; ибо через них я ничего не познаю в объекте представления, хотя они могут быть следствием какого-то познания. Теперь, целесообразность вещи, поскольку она представлена в восприятии, также не является свойством самого объекта (ибо такое нельзя воспринять), хотя она может быть выведена из познания вещей. Таким образом, целесообразность, которая предшествует познанию объекта и даже без намерения использовать его представление для познания, тем не менее непосредственно связана с ним, – это субъективное в нем, что вообще не может стать элементом познания. Следовательно, объект тогда называется целесообразным лишь потому, что его представление непосредственно связано с чувством удовольствия; и само это представление есть эстетическое представление целесообразности. – Остается только вопрос, существует ли вообще такое представление целесообразности.
Если с простым схватыванием (apprehensio) формы объекта созерцания без отношения ее к понятию для определенного познания связано удовольствие, то представление тем самым относится не к объекту, а исключительно к субъекту; и удовольствие не может выражать ничего иного, кроме соответствия объекта познавательным способностям, которые задействованы в рефлектирующей способности суждения, и постольку, поскольку они в ней находятся, т. е. выражает лишь субъективную формальную целесообразность объекта. Ибо это схватывание форм в воображении никогда не может произойти без того, чтобы рефлектирующая способность суждения, хотя бы непреднамеренно, не сравнила их со своей способностью относить созерцания к понятиям. Если же в этом сравнении воображение (как способность априорных созерцаний) приводится в соответствие с рассудком (как способностью понятий) через данное представление непреднамеренно и тем самым пробуждается чувство удовольствия, то объект должен тогда рассматриваться как целесообразный для рефлектирующей способности суждения. Такое суждение есть эстетическое суждение о целесообразности объекта, которое не основывается ни на каком имеющемся понятии объекта и не дает такового. Форма объекта (не материя его представления как ощущения) в простой рефлексии о ней (без намерения приобрести какое-либо понятие о нем) признается основанием удовольствия от представления такого объекта; и это удовольствие также признается необходимо связанным с его представлением, следовательно, не только для субъекта, схватывающего эту форму, но и для всякого судящего вообще. Объект тогда называется прекрасным; а способность судить через такое удовольствие (следовательно, общезначимо) – вкусом. Ибо так как основание удовольствия полагается исключительно в форме объекта для рефлексии вообще, следовательно, ни в каком ощущении объекта, ни в отношении к понятию, содержащему какую-либо цель, то это лишь закономерность в эмпирическом применении способности суждения вообще (единство воображения с рассудком) в субъекте, с которой согласуется представление объекта в рефлексии, чьи условия априори общезначимы; и поскольку это согласие объекта со способностями субъекта случайно, оно вызывает представление целесообразности его в отношении познавательных способностей субъекта.
Здесь есть удовольствие, которое, как и всякое удовольствие или неудовольствие, не вызванное понятием свободы (т. е. предшествующим определением высшей способности желания чистой практической причиной), никогда не может быть усмотрено через понятия как необходимо связанное с представлением объекта, но всегда должно признаваться связанным с ним лишь через рефлектированное восприятие, следовательно, как и все эмпирические суждения, не может объявлять объективной необходимости и претендовать на значимость априори. Но суждение вкуса, как и всякое другое эмпирическое суждение, претендует лишь на то, чтобы быть значимым для всех, что, несмотря на внутреннюю случайность его, всегда возможно. Удивительное и отклоняющееся заключается лишь в том, что это не эмпирическое понятие, а чувство удовольствия (следовательно, вовсе не понятие), которое тем не менее через суждение вкуса, как если бы оно было предикатом, связанным с познанием объекта, приписывается всем и должно связываться с его представлением.
Отдельное эмпирическое суждение, например, того, кто воспринимает в горном хрустале движущуюся каплю воды, справедливо требует, чтобы всякий другой также нашел это, так как он вынес это суждение согласно общим условиям определяющей способности суждения под законами возможного опыта вообщеТочно так же тот, кто чувствует удовольствие от простой рефлексии о форме объекта безотносительно к понятию, хотя это суждение эмпирическое и единичное, справедливо претендует на согласие каждого: потому что основание этого удовольствия находится в общей, хотя и субъективной, условии рефлектирующих суждений, а именно в целесообразном соответствии объекта (будь то продукт природы или искусства) с отношением познавательных способностей между собой, которые требуются для всякого эмпирического познания (воображения и рассудка). Таким образом, удовольствие в суждении вкуса хотя и зависит от эмпирического представления и не может быть связано априори ни с каким понятием (нельзя априори определить, какой объект будет соответствовать вкусу, а какой нет, – это нужно испытать), но оно является определяющим основанием этого суждения лишь потому, что осознается как основанное исключительно на рефлексии и общих, хотя и только субъективных, условиях соответствия ее познанию объектов вообще, для которых форма объекта целесообразна.
Это причина, по которой суждения вкуса, в силу своей возможности, так как они предполагают априорный принцип, также подлежат критике, хотя этот принцип не является ни принципом познания для рассудка, ни практическим для воли и, следовательно, вообще не является определяющим априори.
Восприимчивость к удовольствию от рефлексии о формах вещей (как природы, так и искусства) означает не только целесообразность объектов по отношению к рефлектирующей способности суждения, согласно понятию природы, в субъекте, но и, наоборот, субъекта по отношению к объектам, их форме и даже их бесформенности, согласно понятию свободы; и благодаря этому эстетическое суждение относится не только как суждение вкуса к прекрасному, но и, как возникшее из чувства духа, к возвышенному, и потому критика эстетической способности суждения должна разделиться на две соответствующие этим частям главные части.
8. О логическом представлении целесообразности природы.В данном в опыте объекте целесообразность может быть представлена: либо из чисто субъективного основания, как соответствие его формы, в схватывании (apprehensio) его до всякого понятия, познавательным способностям, чтобы соединить созерцание с понятиями для познания вообще; либо из объективного, как соответствие его формы с возможностью самой вещи согласно предшествующему понятию о ней, которое содержит основание этой формы. Мы видели, что представление целесообразности первого рода основывается на непосредственном удовольствии от формы объекта в простой рефлексии о ней; целесообразность же второго рода, поскольку она относит форму объекта не к познавательным способностям субъекта в схватывании ее, а к определенному познанию объекта под данным понятием, не имеет ничего общего с чувством удовольствия от вещей, а связана с рассудком в их оценке. Если понятие объекта дано, то задача способности суждения в его применении для познания состоит в представлении (exhibitio), т. е. в том, чтобы поставить созерцание, соответствующее понятию: будь то через наше собственное воображение, как в искусстве, когда мы реализуем заранее составленное понятие об объекте, который для нас есть цель, или через технику природы (как в организованных телах), когда мы подкладываем ей наше понятие цели для оценки ее продукта; в последнем случае представляется не только целесообразность природы в форме вещи, но и этот ее продукт как природная цель. – Хотя наше понятие о субъективной целесообразности природы в ее формах согласно эмпирическим законам вовсе не является понятием объекта, а лишь принципом способности суждения раздобыть себе понятия в этом ее чрезмерном многообразии (чтобы ориентироваться в ней), мы тем не менее как бы приписываем ей внимание к нашей познавательной способности по аналогии с целью; и потому мы можем рассматривать красоту природы как представление понятия формальной (чисто субъективной), а природные цели – как представление понятия реальной (объективной) целесообразности, из которых первую мы оцениваем через вкус (эстетически, посредством чувства удовольствия), вторую – через рассудок и разум (логически, по понятиям).
На этом основывается разделение критики способности суждения на эстетическую и телеологическую: под первой понимается способность оценивать формальную целесообразность (иначе называемую субъективной) через чувство удовольствия или неудовольствия, под второй – способность оценивать реальную (объективную) целесообразность природы через рассудок и разум.
Критика способности суждения.Часть, посвящённая эстетической способности суждения, является существенной для неё, поскольку только она содержит принцип, который способность суждения полностью априори кладёт в основу своего размышления о природе, а именно принцип формальной целесообразности природы согласно её особенным (эмпирическим) законам для нашей познавательной способности, без чего рассудок не мог бы ориентироваться в ней. Напротив, нельзя указать никакого априорного основания, да и даже сама возможность этого не вытекает из понятия природы как объекта опыта вообще и в частности, что должны существовать объективные цели природы, то есть вещи, возможные только как природные цели. Лишь способность суждения, не содержащая в себе априорного принципа для этого, в конкретных случаях (некоторых продуктов) содержит правило, чтобы ради пользы разума использовать понятие целей, после того как это трансцендентальное принцип уже подготовил рассудок к применению понятия цели (по крайней мере, по форме) к природе.
Однако трансцендентальный принцип представлять себе целесообразность природы в субъективном отношении к нашей познавательной способности через форму вещи как принцип её оценки оставляет совершенно неопределённым, где и в каких случаях я должен проводить оценку как оценку продукта согласно принципу целесообразности, а не просто согласно общим законам природы, и предоставляет эстетической способности суждения определять в вкусе соответствие (его формы) нашим познавательным способностям (поскольку она решает не через согласие с понятиями, а через чувство). Напротив, телеологически используемая способность суждения точно указывает условия, при которых что-то (например, организованное тело) должно оцениваться согласно идее цели природы, но не может привести никакого основания из понятия природы как объекта опыта для права приписывать ей априорное отношение к целям и даже лишь неопределённо предполагать подобное из фактического опыта с такими продуктами. Причина этого в том, что необходимо провести множество частных опытов и рассмотреть их в единстве их принципа, чтобы лишь эмпирически распознать объективную целесообразность в определённом объекте.
Таким образом, эстетическая способность суждения – это особенная способность оценивать вещи по правилу, но не по понятиям. Телеологическая же не является особенной способностью, а представляет собой рефлектирующую способность суждения вообще, поскольку она, как и везде в теоретическом познании, действует согласно понятиям, но в отношении некоторых объектов природы – по особенным принципам, а именно принципам лишь рефлектирующей, а не определяющей объекты способности суждения. Поэтому по своему применению она относится к теоретической части философии и, в силу своих особенных принципов, которые не являются определяющими (как должно быть в доктрине), также должна составлять особенную часть критики. Напротив, эстетическая способность суждения ничего не вносит в познание своих объектов и потому должна быть отнесена лишь к критике судящего субъекта и его познавательных способностей, поскольку они способны к априорным принципам, какое бы применение (теоретическое или практическое) они ни имели. Это пролегомены ко всей философии.
О связи законодательств рассудка и разума через способность суждения.
Рассудок априори законодательствует для природы как объекта чувств в теоретическом познании её в возможном опыте. Разум априори законодательствует для свободы и её собственной причинности как сверхчувственного в субъекте в безусловно-практическом познании. Область понятия природы под одним законодательством и понятия свободы под другим полностью отделены друг от друга, несмотря на возможное взаимное влияние (каждое по своим основным законам), великой пропастью, разделяющей сверхчувственное от явлений. Понятие свободы ничего не определяет в отношении теоретического познания природы, а понятие природы – ничего в отношении практических законов свободы. В этом смысле невозможно перекинуть мост от одной области к другой.
Однако если определяющие основания причинности по понятию свободы (и содержащегося в нём практического правила) не находятся в природе и чувственное не может определять сверхчувственное в субъекте, то обратное (хотя и не в отношении познания природы, но в отношении следствий из первого на последнюю) возможно и уже содержится в понятии причинности через свободу, действие которой должно происходить в мире согласно её формальным законам. Хотя слово «причина», применяемое к сверхчувственному, означает лишь основание определять причинность природных вещей к действию согласно их собственным законам природы, но в согласии с формальным принципом законов разума, возможность чего, хотя и не может быть усмотрена, но возражение о мнимом противоречии, которое якобы в этом содержится, может быть достаточно опровергнуто.









